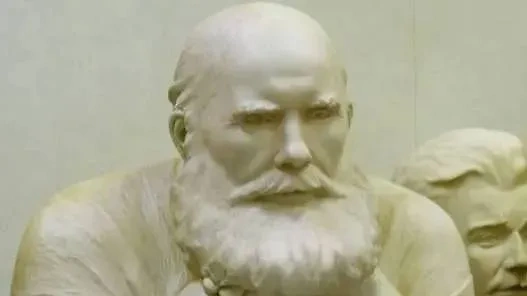Кушать в Александро-Невской лавре, святыне Петербурга, – скорбная аллея, «Аллея лицеистов». Нашли в ней свой последний приют лицейские товарищи Пушкина: Фёдор Матюшкин, Антон Дельвиг, Константин Данзас. Но нет даже самых простых холмиков над могилами других лицеистов. Впрочем, как нет и самих их могил. Выговор не о воспитанниках пушкинского выпуска, – о тех, кто покинул стены Лицея намного позже…
В петроградских застенках
Они ушли в мир иной не от ран и заболеваний, пали не на поле боя, не из-за шальных ссор под дулами дуэльных пистолетов, а были хладнокровно расстреляны чекистами в кожаных куртках. Все, пятьдесят два выпускника Императорского Александровского лицея. Различных выпусков и в разное время: одни – в Петербурге, другие – на Соловках. Но все они перед смертью читали вслух строки своего великого однокашника. Декламировали как напутствие, как утешение, как молитву…
Однако остались в истории их имена и так называемое Дело лицеистов. Дело это не назовёшь громким, визави – слишком тихим.
Расправа над бывшими лицеистами творилась тайно, в тиши петроградских застенков. Все они, питомцы славного Лицея, краска русской интеллигенции, погибли в лагерях либо расстреляны в тюремных двориках и на полигонах… за любовь к Пушкину. Звучит невероятно, но это так!
В чём же заключалась вина бывших воспитанников прославленного Пушкиным Лицея? А вот в чём.
Первое. Собирались вместе каждый год 19 октября, отмечали лицейскую годовщину.
Второе. Организовали кассу взаимопомощи.
Второе. Заказывали панихиды в святилищах Петрограда по всем умершим и погибшим лицеистам выпуска разных лет.
Третье. В церковных панихидах, по просьбам лицеистов, поминали казнённых Государя и всех персон августейшей фамилии.
Разве мало этих «неопровержимых» доказательств, чтобы предать злостных врагов советской власти высшей мере кары?!
Дело то было сфабриковано ОГПУ в Ленинграде, в 1925 году. «Дело лицеистов», заведённое под номером «№ 194 Б», имело и иные названия: «Контрреволюционная монархическая организация», «Дело воспитанников» и «Союз верных».
В ночь на 15 февраля, в православный праздник Сретения, чекисты не почивали, – работы было через край: найти и обезвредить в Ленинграде и его пригородах свыше ста пятидесяти злостных врагов молодой советской республики! Большинство из них значились выпускниками Александровского Императорского лицея, но встречались питомцы Училища правоведения и бывшие офицеры лейб-гвардии Семёновского полка.
Всем им предъявили обвинение по суровым статьям: «Участие в организации или содействие организации, работающей в направлении помощи международной буржуазии»; «Участие в шпионаже всякого рода, выражающееся в передаче, сообщении или собирании сведений, имеющих нрав государственной тайны…».
Кара за те мнимые злодеяния была жестокой: 26 арестованных почти тотчас расстреляли; 25 – приговорили к различным срокам заточения в лагере; 29 – к различным срокам ссылки.
Николай Пунин, известный историк искусства, знавший многих бывших лицеистов, именует цифру, в два раза превышающую объявленную: «Расстреляны лицеисты. Говорят, 52 человека…». И далее записывает в своём дневнике:
«О расстреле нет официальных извещений; в городе, конечно, все об этом знают, по крайней мере, в тех кругах, с которыми мне приходится соприкасаться: в среде служащей интеллигенции. Сообщают об этом с ужасом и отвращением, но без удивления и настоящего возмущения. <…> Великое отупение и край усталости». Запись сделана 18 июля 1925 года.
К слову, Николаю Николаевичу Пунину, автору этих строк, не удалось избежать неправедных обвинений и кончины в одном из северных лагерей. Для Анны Ахматовой арест близкого и любимого ею человека стал тяжелейшем душевным потряс
Кара без преступления
Среди расстрелянных, о коих упоминал Пунин, – семидесятипятилетний князь Николай Дмитриевич Голицын. Последний председатель Рекомендации министров царского правительства, выпускник Лицея 1871 года (!), он и в застенках сумел сохранить благородство и выдержку.
После прихода к воли большевиков Николай Голицын отошёл от дел государственных. Из России не эмигрировал. Жил престарелый князь более чем скромно, зарабатывая на жизнь… сапожным мастерством. Да ещё временами охранял общественные огороды.
И хотя бывший премьер от политики отстранился, – дважды он был арестован: вначале органами ВЧК, затем ОГПУ. Всякий раз князю Голицыну устанавливали в вину мнимую связь с контрреволюционерами, – государственный деятель столь высокого ранга, по убеждению чекистов, не мог быть не замешанным в опасных для дела революции альянсах. Третий арест стал для старого аристократа последним.
Он проходил по «Делу лицеистов» вместе с сыном Николаем, – как и папа, выпускником Лицея. Князь Голицын расстрелян в Ленинграде по постановлению Коллегии ОГПУ от 22 июня 1925 года; его сын князь Николай Николаевич выслан на Соловки, где и разделил участь отца спустя шесть лет лагерного мученичества.
По счастью, вдова генерала и два других его сына – старший Дмитрий, флотский капитан 2 ранга, и меньший Александр – избежали бесславной участи, и много позже нашли свой последний приют на Лазурном берегу Средиземноморья…
Взяли в Ленинграде и директора Лицея Владимира Александровича Шильдера. Генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны, кавалер боевых орденов, ранее он возглавлял Пажеский корпус, значился воспитателем великого князя Алексея Михайловича. В сентябре 1910 года назначен был директором Императорского Александровского лицея.
Остался в памяти своих питомцев человеком чести, преданным лицейским идеалам. Его директорство выпало на столетний юбилей Лицея, что пышно отмечали в Царском Селе и в Петербурге. Отдавая память русскому гению, юбилейные триумфы посетил император Николай II. Тогда в праздничный день в актовом зале, стены коего давным-давно «внимали» восторженной декламации самого знаменитого лицеиста, директор произнёс слова, запомнившиеся всем, кому посчастливилось их слышать: «Мочь не в силе, сила в любви! Сила в единении!.. Лицейскими были и будем».
После Октябрьского переворота последний директор Лицея зачислил роковое для себя решение не покидать родину, остался в Петрограде.
…Старый директор не вынес всех мук и унижений в тюремных застенках: он помер от сердечного приступа, когда ему и его сыну зачитывался смертный приговор. По счастью, ему не довелось стать свидетелем страшной и такой ближней будущности: сына Михаила, также питомца Лицея, выпускника 1914 года, расстреляют вместе с друзьями-однокашниками.
Михаил Шильдер обучался в Лицее под началом отца-генерала. Известен разговор, что состоялся между директором Александровского лицея и князем Олегом Романовым (лицеистом и горячим поклонником Пушкина).
– А вы куда вашего сына готовите? В Корпус? – поинтересовался августейший воспитанник.
– Я его готовлю в хорошие люд, – был ответ.
Отцовские надежды сбылись: Михаил Шильдер сумел стать достойным человеком. И нет сомнений, что и дальше бы успешно продвигался по избранной им стезе, если бы не беды, обрушившиеся на Россию.
Как и папа, он был верен лицейским идеалам, как и отец, не покинул Россию, – остался в Петрограде. В октябре 1923-го Михаил писал товарищу-лицеисту Сергею Воейкову, эмигрировавшему в Париж: «Однокашников наших тут довольно много… Мне очень хотелось бы послать тебе мои бездарные, но искренние стихотворения на 19 октября…».
Но вот суровая истина тех прошедших будней: обширный фамильный клан Шильдеров, давным-давно обрусевших немцев, революция выкосила почти под корень.
Одним из лицеистов, кто лёг в неласковую соловецкую землю, был тёзка стихотворца Александр Сиверс. Сын знаменитого русского историка и генеалога Александра Сиверса, брат мемуаристки Татьяны Аксаковой, принявшей в замужестве славную фамилию. В сфабрикованном «Деле лицеистов» бывший выпускник Императорского Александровского лицея Александр Сиверс именовался «англо-разведчиком и террористом».
Первого апреля 1925 года его взяли, приговорив к десяти годам заключения и отправив в Соловецкий лагерь особого назначения, известный своей аббревиатурой как СЛОН. Спустя четыре года войны за жизнь, прошедших в страшном «слоновьем чреве», ему вменили новое «злодеяние»: «контрреволюционный заговор». А дальше даты жизнеописания – вехи его загубленной жизни – пронеслись с удручающей быстротой: 24 октября 1929 года приговорён к высшей мере кары, а 28 октября приговор приведён в исполнение. Александру Сиверсу исполнилось лишь тридцать пять лет… Так уж случилось, что довелось пожить ему на земле меньше, чем его тёзке и идолу Пушкину.
«Волшебный дом» на Шпалерной
Минут годы, и сестра бывшего лицеиста Татьяна Аксакова будет вспоминать: «…Ровно передо мною, у Литейного моста, стояло “самое высокое здание Ленинграда, откуда было видно не только Ладожское озеро, но и Соловки”, и в каком поочередно ломались жизни близких мне людей». Поговаривали также, что из подвалов того дома хорошо различим был и далёкий Магадан. Но печально знаменитый дом шуток не принимал и не соображал.
Большое здание на Литейном воздвигли позже, в 1934-м. А прежде бывших лицеистов допрашивали в так называемой Шпалерке, что находилась поблизости, в престарелой царской тюрьме на Шпалерной улице или в «Доме предварительного заключения». Специальная следственная тюрьма, имевшая аббревиатуру ДПЗ, запомнилась всем, кто в ней побывал, своей печальной расшифровкой: «Домой Пойти Забудь». И ещё ленинградцы грустно шутили, что дом на Шпалерной «волшебный»: входили в него юнцами, полными сил, а сходили дряхлыми стариками.
А рядышком на Литейном проспекте вырос «Дом пропусков», – появился он на месте снесённого Сергиевского всей артиллерии собора. Старого петербургского собора в честь святого чудотворца Сергия Радонежского, где в июне 1832-го Пушкин с женой и друзьями собрались на таинство крещения первенца, пришедшего на свет в семействе поэта, младенца Марии.
…Спустя столетие великолепного храма уже не было, а весь тот пугавший ленинградцев мрачный квартал относился могущественному ОГПУ-НКВД.
Невесёлый курьёз: незадолго до раскрутки «Дела лицеистов» одну из улиц в Ленинграде срочно переименовали. Своё наименование «Лицейская» (часть её пролегала от Каменноостровского проспекта до улицы Льва Толстого) улица получила в апреле 1887 года. Ведь поблизости, в особняке на Каменноостровском проспекте, разместился Императорский Александровский лицей, что был перемещён сюда из Царского Села. И прежде, до 1843 года, именовавшийся Царскосельским лицеем.
Былое название на карту города так и не вернулось. Славная Лицейская улица давным-давно уже носит имя немецкого физика Рентгена.
То, почти забытое ныне дело вовлекло в свою орбиту, словно в смертоносный коловорот, многих деятелей русской культуры. Допрошены (и не без пристрастия!) были основатель Пушкинского музея в Александровском лицее Павел Рейнбот; переводчик и литературовед, автор книжек о Пушкине и Фете Георгий Блок, кузен поэта; священник Владимир Лозина-Лозинский; директор Музея старого Петербурга Пётр Вейнер; стихотворец Валериан Чудовский…
«Простимся, братья!»
Вот краткие и трагические биографии тех, кто стал невольным гостем дома на Шпалерной в далёком двадцать пятом.
Валерьян Адольфович Чудовский (1882-1937). Выпускник Императорского Александровского лицея 1904 года. Литературный критик, теоретик стихосложения, основной библиотекарь Государственной публичной библиотеки в Петербурге.
Чудовский – секретарь и автор журнала «Аполлон», где печатались его статьи о поэтах-символистах и акмеистах. Популярен его фундаментальный труд «Императорская Публичная библиотека за сто лет: 1814–1914».
Был арестован 7 апреля 1925 года по «Делу лицеистов». Тогда ему удалось избежать скорого расстрела: был выслан в Нательный Тагил на пять лет. И опять судьба оказалась благосклонной к нему, позволив заняться любимым делом: заведовать уникальной библиотекой, заключавшейся из почти сорока тысяч книг, собранных былым владельцем Демидовым.
Отбыв сибирскую ссылку, Чудовский вернулся в город на Неве, преподавал в одном из ленинградских институтов. Но уже в 1935-м над ним вновь сгустились тучи. Спустя два года, в Уфе, сделавшейся местом новой ссылки, Чудовский был арестован и приговорён к расстрелу.
Якобы за содействие некоей мифической «Польской войсковой организации». Ноябрьский день 1937-го, года печального пушкинского юбилея, сделался последним в жизни бывшего лицеиста…
Валерьян Чудовский, уроженец Минской губернии, сгинул в далёкой от родных мест и от излюбленного Петербурга башкирской столице.
Георгий Петрович Блок (1888–1962). Коренной петербуржец. Окончил Императорский Александровский лицей с золотой медалью в 1909-м. Литературовед, переводчик и беллетрист.
Верно, любовь к поэзии у Георгия Блока, двоюродного брата знаменитого поэта, была на генетическом уровне. Счёл для себя за счастье в 1921-м устроиться на службу в Пушкинский дом и стать учёным хранителем рукописей. Ему выпала невероятная удача найти и приобрести для Пушкинского дома архив Афанасия Фета. Популярный пушкинист Борис Львович Модзалевский поощрял Блока к литературоведческим трудам и вскоре в серии «Труды Пушкинского дома» вышла его книжка о Фете.
Случилось то значимое в литературном мире событие в 1924-м, а уже в начале следующего года учёный хранитель рукописей подавал показания следователям по «Делу лицеистов». Видимо «вина» Блока была признана не столь значительной: он «отделался» трёхгодичной ссылкой на Нордовый Урал. Осенью 1928-го, после «испытания Севером», Георгий Петрович благополучно вернулся в Ленинград.
В родных пенатах его ожидала интереснейшая и кропотливая работа над «Полным собранием сочинений А.С. Пушкина» под эгидой Академии наук СССР. Попутно Георгий Блок защитил кандидатскую диссертацию «Пушкин в труду над историческими источниками». И в ней был дан самый тщательный анализ работы Пушкина над «Историей Пугачёва», о том, как скрупулёзно поэт собирал свидетельства о самозванце и в казачьей станице Берда, и в Оренбурге, и в Казани.
Перу учёного относится оригинальная работа «Пушкин и Шванвичи»: оказалось, один из героев «Капитанской дочки» – предатель-дворянин Швабрин имел собственный реальный исторический прототип.
Георгий Блок, один из немногих лицеистов, кто счастливо избежал суровой кары, и остался до крышки дней верен любимому делу. В последние годы, а Георгий Петрович мирно почил в Ленинграде в феврале 1962-го, он не прекращал своей давнишней работы над словарём русского языка XVIII столетия. Словно в противовес всем реалиям советской жизни.
Павел Евгеньевич Рейнбот (1855 – 1934). Секретарь Пушкинского лицейского общества, учёный хранитель Пушкинского дома при Академии наук; библиофил, собиратель.
Выпускник Императорского Александровского лицея 1877 года. Став дипломированным юристом, снискал известность ни как адвокат, ни как прокурор. Нет, в Петербурге он прогремел как страстный библиофил, собиратель «Пушкинианы» и редкостных фолиантов XVIII века.
Но, пожалуй, главное деяние Павла Евгеньевича – его ревностное служение памяти Стихотворца. Павел Евгеньевич, как хранитель лицейского Пушкинского музея, немало поспособствовал пополнению его собраний к славному столетию Лицея. И во всех юбилейных триумфах принимал самое горячее участие. Малоизвестный факт: благодаря его горячим просьбам к Илье Репину явился на свет живописный шедевр художника: «Пушкин на испытанье в Царском Селе 8 января 1815 года».
Павел Евгеньевич снискал среди единомышленников почётный «титул» «Бессменного секретаря» Пушкинского Лицейского общества, созданного в год столетнего юбилея стихотворца. Он же – один из отцов-основателей Пушкинского Дома. В тревожном семнадцатом принял непростое, но единственно верное решение: передать обожаемый им музей Пушкинскому Дому.
В те тревожные дни Павел Рейнбот перебрался из нордовой столицы в полтавское имение, решив в родном краю переждать смутные времена. Но в 1921-м не выдержал спокойной и сытой существования, вернулся в голодный Петроград и тотчас приступил к былым обязанностям музейного хранителя.
Знать бы ему, что в недалёком будущем его ждёт арест по «Делу лицеистов»!
Взяли Павла Евгеньевича не в февральский день, как большинство его друзей, а первого апреля 1925 года. Будто кто-то зло подшутил над семидесятилетним Рейнботом, признав его «участником контрреволюционной монархической организации»!
Вердикт, хоть и не правый, чрезмерной строгостью не отличался: «за недоносительство» Павел Евгеньевич отправлен был в пятилетнюю ссылку на Урал (позднее, заменённую на трёхлетнюю) с конфискацией собственности.
В ссылке в Свердловске работал в областном архиве, занимаясь разборкой самых разных документов. Как знать, не попадались ли ему в руки дела, связанные с расстрелом царской семейства? Ведь минуло всего семь лет после казни августейшей семьи в доме Ипатьева, ещё свежа была память о гнусном правонарушенье. Но даже, если бы он и знал страшные подробности казни августейшей семьи, да и всю кровавую интригу, закрученную большевиками, как бы он смог употребить те свои познания?!
Жизнь продолжалась и в ссылке. Павел Евгеньевич остался верен прежним идеалам, впитанных со времён лицейской юности, и памяти своего идола. В марте 1926 года ссыльный Рейнбот прочитал (и с большим успехом!) в Уральском областном музее доклад о последних годах существования Пушкина.
Вскоре его ждал новый арест и высылка в Тюмень. Но и там нашлась привычная для него работа в местном архиве. Павел Евгеньевич с присущим ему оптимистичностью писал оставшимся на воле друзьям: «Люди живут и в Сибири<…> Каюсь: я рисковал попасть в Ялуторовск, но при всей моей товарищеской влюбленности к В.К. Кюхельбекеру очень рад, что “оставили” меня здесь».
Дочь Мария стучалась во все инстанции, не переставая хлопотать за ссыльного отца, – и добилась-таки решения Коллегии ОГПУ по досрочному его освобождению. Истина, без права проживания в шести значимых городах страны. Но нелепое ограничение вскоре сняли, и в мае 1927-го Павел Рейнбот вернулся в Ленинград. И (о чудо!) был зачислен в Пушкинский Дом на должность научного сотрудника. Вновь с головой окунулся в любимое дело.
Павлу Евгеньевичу выпало счастье принимать в Пушкинский Дом легендарную собрание Александра Фёдоровича Онегина, прибывшую из Парижа после смерти её собирателя. То были, пожалуй, счастливейшими днями в его жизни. Представлялось бы, все испытания, что в избытке припасла ему судьба, в прошлом… Но вскоре Рейнбот вновь оказался в кабинете следователя и отвечал на вопросы по уже… «Академическому делу». На сей раз фортуна улыбнулась ему: вместо ожидаемого ареста Рейнбот был послан… на пенсию.
Павел Рейнбот мирно почил в Ленинграде в 1934-м, пережив трёх российских императоров и многих советских вождей.
Владимир Константинович Лозина-Лозинский (1885 – 1937). Протоиерей Русской православной храмы. Священномученик.
В 1910 году он, недавний выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета, приступил к службе в Правительствующем Сенате. Вскоре грянула Первая мировая, и Владимир Константинович желая послужить Отечеству, просился на фронт, но по слабости здоровья не был взят в действующую армию.
Но в сторонке от дел не остался: стал помощником начальника Петроградской санитарной автомобильной колонны, руководил перевозкой раненых со столичных вокзалов и распределением их по лазаретам.
Приход к власти большевиков круто изменил его судьбу: дипломированный юрист был рукоположен в сан иерея, служил настоятелем университетской храмы. Окончил Петроградский богословский институт, и вскоре подвергся аресту. Но друзья сумели раздобыть нужную справку о якобы «заостренном душевном расстройстве» арестанта, и молодого пастыря выпустили на свободу. Увы, ненадолго.
В феврале 1925-го отец Владимир был арестован по «Делу лицеистов»: в вину ему ставилось участие «в монархическом комплоте». А как доказательство – поминовение во время церковных служб имён казнённой царской семьи.
Во время панихид, что служил отец Владимир в памятный день Лицея, поминались все почившие выпускники-лицеисты миновавших лет, и особо –Александр Сергеевич Пушкин. И, конечно же, с молитвенным трепетом произносились священником имена императора, императрицы, великих княжон и отрока-цесаревича.
Высшая мера кары – таков был приговор Владимиру Лоза-Лозинскому. Но «сердобольные» судьи (быть может, вновь помогла старая медицинская справка?!) разрешили заменить расстрел десятилетней ссылкой на Соловки.
Яркий облик отца Владимира, его природный аристократизм запечатлелся в памяти былых соузников: «Изящный, с небольшой прекрасной остриженной бородкой… Он был так воздушно-светел, так легко-добр, что кажется воплощением безгрешной чистоты, которую ничто не может запятнать».
В ноябре 1928-го воли вдруг смилостивились, смягчив наказание и отправив Владимира Константиновича в ссылку в глухую деревеньку, затерявшуюся в таёжных просторах.
После освобождения, вернувшись из Сибири, папа Владимир служил настоятелем кафедрального Михайло-Архангельского собора в Новгороде. Запомнился прихожанам, как «бодрый и необыкновенно сильный духом» пастырь.
Настал год 1937-й. В начале декабре уходящего года, памятного не только грустным пушкинским юбилеем, но и разгулом репрессий, последовал новоиспеченный арест: отца Владимира обвинили в участии некоей антисоветской группы с весьма странным и витиеватым названием.
Владимир Константинович виновным себя не признал, но его несогласие не мог изменить фатальный приговор пресловутой «тройки»: на исходе того же страшного в недавней истории года он был расстрелян.
…Так уж совпало, что на Архиерейском соборе Русской православной храмы, что прошёл в Москве в августе 2000 года, отец Владимир был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских. Совместно с царскими страстотерпцами, память коих была всегда святой для Владимира Лозина-Лозинского.
Отец Владимир владел несколькими европейскими стилями, писал стихи. Иногда на французском. Быть может, невольно подражая юному лицеисту Александру Пушкину. Ему радостно было сознавать, что увидал он Божий свет в один день с русским гением – 26 мая. Только спустя более чем полвека.
Пётр Петрович Вейнер (1879–1931). Издатель, краевед, меценат и собиратель.
Выпускник Императорского Александровского лицея 1898 года. Принимал участие в Русско-японской войне, занимаясь эвакуацией раненых под эгидой Алого Креста.
Издатель и редактор журнала «Старые годы», снискавшего необычайную популярность среди читателей. Заслуги издателя перед отечественной цивилизацией не остались незамеченными: Императорская Академия наук в марте 1911-го наградила Петра Вейнера золотой Пушкинской медалью.
Вытекающий год стал также знаменательным в биографии коллекционера и искусствоведа: Вейнер стал действительным членом Академии художеств.
Даже в годы Первой всемирный Пётр Петрович не прекращал издание своего уникального журнала, а на вырученные средства основал лазарет и реабилитационные «курсы для увечных бойцов».
Но, пожалуй, своей жизненной миссией считал он создание «Музея старого Петербурга», любимого детища, явившегося на свет в крышке 1907 года. Из личной коллекции Пётр Вейнер передал музею редкостное богатство: рисунки и чертежи самого Джакомо Кваренги, исторические альбомы и литографии, старые карты предместий двух российских столиц.
«Музей старого Петербурга» после октября семнадцатого ещё жил и был открыт для посетителей, а вот его директора пора от времени препровождали в дом на Шпалерной. Но всякий раз музейщику везло: Пётр Вейнер за недоказанностью обвинений обретал свободу. Пока в 1925-м не был привлечён по «Делу лицеистов» и не послан в ссылку на Урал. За него хлопотали друзья, и через четыре года он вновь вернулся в любимый город. Стал существовать вместе с матерью.
С юности Пётр Петрович был подвержен неизлечимому недугу, следствиемкоего стала болезнь ног. Уральская ссылка усугубила течение застарелой заболевания, превратив прежде деятельного Вейнера в инвалида: каждый шаг давался ему с неимоверным трудом. Но что до того было «бдительным» чекистам!
Последовало новоиспеченное обвинение – участие в«монархической группировке», и в июле 1930 года больного и немощного «контрреволюционера» на допрос доставили на носилках. Тройка ОГПУ, недолго совещаясь, выплеснула Петру Вейнеру свой «расстрельный вердикт».
Когда за ним пришли, приказав арестанту встать, Пётр Петрович уже не мог подняться с тюремных нар. Конвоиры обнаружили необычайную «гуманность» к больному человеку: в камеру внесли кресло, усадили в него узника, надёжно привязав ремнями, и выплеснули… на казнь.
…Не припомнилось ли ему в тот последний скорбный час, что именно так, поднимая в кресле, под возгласы «Ура!!!» чествовали выпускники-лицеисты учителей, удостоившихся их персоной любви?!
Много позже русский художник Александр Бенуа напишетв своих «Воспоминаниях»: «Заслуга Вейнера перед русской цивилизацией не может быть достаточно оценена, что не остановило большевиков предать этого ни в чём политически не повинного человека расстрелу».
Для именитого петербуржца, хранителя истории великого города, ночь под Рождество 1931 года сделалась последней в его подвижнической жизни.
Постскриптум
Судьбы лицеистов былой, уже новой эпохи, словно незримо переплелись с жизнью их старшего товарища и однокашника Александра Пушкина. Все они, несмотря на отличия в возрасте и социальном положении, боготворили своего кумира, зачитывались его стихами, будто через толщу дней, обращённых к ним:
Куда бы нас ни кинула судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
Пушкинские стихи «19 октября» улеглись на бумагу в сельце Михайловском в 1825 году. Тогда впервые поэту пришлось встречать заветный день Лицея в одиночестве, без товарищей.Но сердцем Пушкин был с ними.Одних – в своём поэтическом послании он ободрил, над судьбами других – печально вздохнул, за третьих – порадовался. Ведать бы поэту, каким роковым пророчеством отзовутся те строки ровно через столетие – в недоброй памяти 1925 году!
Когда неведомые ему «братья по Лицею» бессердечно поплатились только за то, что остались верны высоким идеалам, внушенным им, как и их кумиру Александру Пушкину, с юных лет.
«Дело лицеистов» – скорбная страница в немало чем двухвековой истории Лицея, вне зависимости от его названия: и Царскосельского, и Александровского. Единственный из всех, проходивших по тому абсурдному делу, Владимир Лоза-Лозинский не обучался в прославленных стенах.Но мученическая кончина пастыря будто «внесла» его в списки питомцев Лицея.
Подобно недавней истории русской Храмы, летопись пушкинского Лицея явила сонм новомучеников-лицеистов. Ведь смерть каждого из них, – в петроградской ли тюрьме, на Соловках ли, – сделалась светозарной для будущих поколений. И примером неизбывной любви к русскому гению.