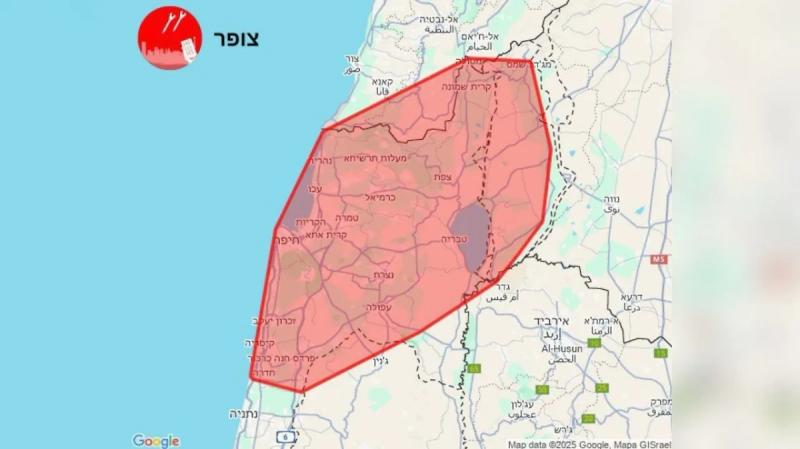Брань. И мы, ее дети


Фото: Роман Щербенков
Война (воевать, от бить, бойня, боевать, как, вероятно, и боярин, воевода или боевода), раздор и ратный бой между странами; международная брань. Наступательная война, когда ведут войско на чужое государство; оборонительная, когда встречают это войско для защиты своего. Брань междоусобная, усобица, когда один и тот же народ, раздвоившись в смутах, враждует между собою оружием…
Всякая война от супостата, не от Господа.
В народе от нашествия татаро-монгол и их Батыя такая присказка осталась: “Знал бы, так и не воевал бы. И еще бы воевал да воевало потерял…”
В.И. Даль, том 1
Неприятель пришел
…Ехали мы в эвакуацию из подмосковного Косино (куда сегодня на метро езжу) в родную рязанскую деревеньку Никольский Бычок, какую в тридцать девятом покинули: одному кузнецу шесть семейных ртов у колхозного горна не согреть.
…Теперь папа негусто засветло приходил домой, у него была какая-то “бронь”, он ковал строевых лошадей – конница накапливала силы в ближайшем лесу – прятали там от бомбежек.
Родители только и виделись за завтраком, разговаривали ночами:
– …Руки не мои – ничего не чувствуют.
– Нездорово, Петь? – шептала мама.
– Нет. Просто не чувствуют.
– Так устали?
– Кто ж их знает. Может, к утру отойдут. Пред глазами, закроешь, – копыта и подковы… Нос утереть рук нет…
– Спи подавай, а то…
– “А то” нельзя… За порчу копыта под трибунал.
Этот родительский шепот ночной “испортишь коня – под трибунал” догонял меня, пока я не сделался в свое время солдатом…
Последний раз весточку получили от отца с дороги на войну. Кто-то из наших деревенских был на станции Гагарино. Сквозь станцию медленно проходил воинский эшелон. Отец прокричал в открытую дверь, чтобы передали Юрковой Анне Николаевне из Бычка, что я, ее Петька, пошел на брань.
Он как только проводил нас в эвакуацию, пошел в военкомат и записался добровольцем: ему стукнуло в тот год 30.
Кузнец-молодец, расковался жеребец.
До Гагарина от Бычка было километров восемнадцать-двадцать. Туда, на хлебный элеватор, наши допризывники возили мешки с рожью и пшеницей очередного урожая: госпоставки.
Мама после говорила: пока до нас дошла весточка от папы, он уже был убит.

Непобедимые шеренги. Фото: из ахрива Анатолия Юркова
Монумент
…Не ожидал, что когда-нибудь увижу памятник своему отцу-солдату, поставленный во весь рост. Среди стаи журавлей. Восемьдесят лет жду и ищу, все жданки истратил. Но какая-то чаяние теплилась, совсем как язычок рождественской лампадки – не от моего хотения, а от милости Божьей.
…И когда оказался в двух шагах от него, на ухоженных дорожках, ведущих к немыслимому изваянию, сердце как-то ойкнуло: столько народу тут – и все солдаты. Стояли за нас и полегли за нашу землю. Больше миллиона…
– Ты чего, пап? – забеспокоилась дочь Лена, прижимая мою руку локтем. – Может, присядем, передохнем?
– Почитать желал…
Потом мы посчитаем, что папино имя будет стоять шестым в строчке имен на букву “Ю”.
– Пап, – сказала Лена, – давай на обратном линии, а сейчас пойдем положим к подножию журавлиного солдата гвоздики.
Я никак не мог оторвать взгляда от строчки, на которой были вырублены фамилии на букву “Ю”. Их было тысячи и тысячи имен, впечатанных в гранитные страницы Ржевского мемориала павшим, выбравшим себе непреходящий покой у подножия холма подле Рижского шоссе сразу за городом Ржевом.
…Я убит подо Ржевом…
И вдруг звон в ушах – ничего не слышу. И ноги отказались от вытекающего шага. Присел тут же на бордюр, повернулся к отцу: ну вот и встретились. Ты молодой, тридцатилетний, мне за восемьдесят пять перевалило; я тебя узнаю, ты меня вряд ли…
…Реет стальной солдат, врастая в небо вместе с журавлиной стаей… Курлычут песню внуки, сыновья, улетели недорослями, желая клялись “вернуться”… Останавливаюсь перед буквой “Ю”.
Не буду кривить душой, да и стыдно старику, давно ищу эту строчку. Ее завещал мне папа, в которого уметили фашисты свою мину, чтобы не промазать, не поранить, а убить.
Не промазали. Да и отец мой пулеметчик, кузнец-молодец не хлипкого десятка: до утра прожил, хоть мина подорвалась у него на груди. Или чуть ниже… И успел послать нам свое последнее пожелание. Хорошее пожелание: “Живите! Помните!”
Вот какого бойца мы поставили на самом красивом у Ржева холме – чтобы вас не забыть. И чтобы себя помнить: откуда мы родом. И от кого.
Юрков Н.И., Юрков М.Т., Юрков Г.К., Юрков П.С., Юрков Ф.С. …
Погоди, возвращаюсь назад… Юрков П.С. – Петр Сергеевич! О, Господи! Это ж мой Папа.
Перечитываю и пересчитываю строчку Юрковых. Их 24, Юрковых в строчке на “Ю”. Петр Сергеевич по ряду шестой… Шестой! Не уходи, постой…
Белоснежная галька посеяна под раскатанной каменной страницей. Под этим слоем лежат тысячи тысяч моих отцов. Они не хотели, чтобы на этой земле отпечатался хоть одной подковой каблук фашистского ботинка. И я не желал. И не хочу. Но все равно мой батя раньше меня так не хотел и его командиры так решили. Этим я второй раз обязан ему своей жизнью.
…А ржевский боец теперь вечно останется впереди нас на пути в небо. Как и журавли.
Эвакуация
Нам дали день на сборы. Совхоз выделил полуторку, грузовик, оборудованный газгольдерной установкой. Увлекательная машина. В кузове у грузовика в правом углу стояла круглая печка, она топилась березовыми чурками. Их сверху подбрасываешь в дверцу, и они там парятся. После химия: температура и давление принимались за дело и получался газ. А с газом все просто, хотя нынешние машины на газу – не такое простецкое дело.
Помню, что подбрасывать в печку дрова возложили мне. Для этого посадили на самую верхотуру, выше крыши. В кузове были кровати, матрасы, диваны, стулья, один деревянный, придвинутый к кабине диван, шкаф, по левому борту – и чемоданы, мешки вящие и маленькие, узлы. По углам в коробах гремела посуда… А поверх этого домашнего скарба сидел я, как на коньке избы Петушок – Золотой гребешок из сказок Пушкина. Ниже среди скарба разместились еще три семейства.
Мы уже почти доехали до Серебряных прудов, когда грузовик с прицепным орудием врезался в нашу полуторку на повороте. Удар был подобный, что меня с верхотуры как ветром сдуло: я приземлился на четвереньки. Один из солдат подскочил ко мне:
– Болит?
У меня не болело ничего, и я не ведал, как об этом сказать. Вместо этого я спросил:
– А мама где?
– Пойдем, все вон там, выбираются из завала.
И тут я увидел, что маму выносят два солдата на дланях, кто-то из них расстелил плащ-палатку, они опустили ее. Мама лежала бледная как полотно. Я кинулся к ней: “Мама, мама…”
Короче, и маму мы откачали, и бойцы своей машиной помогли нашу на дорогу поставить.
– А дальше сами, нам спешить надо. Для каширского укрепрайона наша пушка, – попрощался с нами старшина.
Когда все угомонится и мы после Михайлова повернем к Пронску, на большак, и начнутся знакомые места, я спрошу у мамы:
– Мам, ты чего напугалась? Там, когда авария?
– А что я папе скажу, если детей не уберегла?
И опять у нее глаза намокли.
Вот ведь как выходило, что нас, детей, еще и уберечь надо. И все мамке.
А папу его мама (наша бабка Аня, оставшаяся в блокадном Ленинграде) теперь оберегать не будет?..

Они и сегодня вглядываются в горизонт: учения идут или?.. Фото: Роман Щербенков
Мы, утерянные и оставшиеся
Как выглядит человек, потерявшийся среди своих? А вы думаете, что в таком разе он как-то выглядит? И не потеряется? Он-то бы не желал этого. Да и потерялся бы свой-то? Что с ним станется. Он ведь потому и теряется, что перестал быть своим.
Нет, теперь он уже не свой. И не чужой. Он бы хоть как-то обрадовался, что хоть чей. В том-то и параграф, что он ничей. Н-и-ч-е-й.
Выглядит, как… Как… как мешковина выглядит. Махоньким выглядит. В дырочках, как в оспинах… Или как блестки в студенческом бульоне с яйцом.
В старой мешковине ничего нет – все проваливается. Только картошка не вытекает – остается. А картошка вся померзла – мороз нынче концентрированнее мороза был – в воздухе, в выплесках вода колокольчиками замерзала. Бабы с входных дверей с внутренней стороны по утрам скалывали лед.
Так вся деревня выглядела под крышка войны. А многих и на земле не осталось – потерялись.
***
…Мало ли кому не повезло, кто оказался младшеньким в кукушкином гнезде. Вытолкнули, вывалился – и кошки съели. А на нет и кошки нет.
***
Пока ходил, искал, стучался, чего только не наслушался от особенно доверенных чиновников всех преходящ, преданных букве закона.
– Почему в метриках о рождении у вас записано, что Никольский Бычок в Московской области? Он там никогда не был, а?
Он теперь уже нигде не был. На пункте, на котором отец построил для нас добротный кирпичный дом, теперь густой бурьян-крапива, чернобыл, татарник, полынь…
Я хотел утвердить дощечку на палочке, написать на ней ручкой-самопиской, кто в нем родился, да не сгодился, а Владимир Попов, мой коллега и по должности, и по профессии, мой попутчик до Рязани и обратно, прикатил из репейных зарослей валун:
– Давай демонстрируй, где порог был. Туда и прислоним. А то ведь стыдно перед людьми: родной дом потерялся.
Да, мне стыдно: отец специально для меня дом выстроил. Уходя на войну, нам оставил… А мы вот… За власть краснеть не хочется, но ведь кто-то же придумал: если в колхозе урожай, то сваливать этот урожай московским достижениям, если же он – былинка в поле, то пусть в Рязани косопузой остается. А Москва будет на товарищем фронте успехами рапортовать. Как, перед кем рапортовать, когда хозяев нет? А партия?
…Вот каждому уполномоченному и объясняй, изворачивайся, чтобы на воля тень не бросить:
– В сельсовете, небось, ошиблись с похмелья-то.
– А почему в анкете пишешь, что отец погиб на фронте? Он же в госпитале, в тылу помер?
Сейчас-то я соображаю почему. Прости, отец, среди моих начальников некоторые считали, что попал на фронт, то либо воюй, мать твою, либо умирай, а если угодил в госпиталь, то как бы что-то богопротивное сделал , а то и похуже…
Либо тебя на фронте убили, либо ты с фронта… Третьего не дано. Так тебя разэтак.
Дом сгинул, хозяин исчез, дети разбежались, бывший солдат ковыляет с клюкой… И мы все растерялись: отцовскую страну-победительницу у нас на глазах пустили на распил питомцы доцентов политэкономии, а сработанное кузнецами-молодцами прикарманили. Какие вы наследники, говорят нам, наследники – это те, кто в закордонных университетах ума-разума набираются. Если домой вернутся, эти – наши натуральные наследники и преемники.
Узелок на память
Добро не лихо: бродит в мире тихо – оставили предки нам на память свой узелок.
Вот уже 75 лет (как кончилась брань) ищу могилу своего отца; один из семьи остался: маму, сестру, братьев – всех накрыло меченое чернобыльское покрывало. Отец же последнюю весточку прислал с калининского направления.
Теперь-то я знаю, что как раз в это время на Калининский фронт прибыл Жуков. Георгий Константинович фронт выручил. Мой батя, кузнец-пулеметчик, оставшийся прикрывать отход своей роты, как сообщают нынешние ребята-добровольцы, словил в своем пулеметном гнезде фашистскую мину. Умирающим был вытащен санитаром и доставлен в ближайший лазарет…
Октябрь 1941-го: от Ржева дорога повернула на Берлин
…Кто-то пережил войну, кого разметал по свету смертельный голодание 1945-1946 годов. Я отношу себя к третьей категории: к тем, кто всех и все пережил, пропахав свою первую борозду на колхозном поле как раз в сорок пятом. Отрыжка, одним словом.
***
…А то мы все разбежались-растерялись, и память о нас бродит безымянной, спотыкаясь о чужие кресты. Чего греха таить, мы все хоть раз в существования, да терялись. Не спорьте со мной – пропадали. Кому повезло, опомнились, вернулись. Кто-то и совсем не заметил собственную пропажу. Лишь ощутил будто бы временное помутнение рассудка. И отсутствие, временной провал памяти, как после многочасовой тяжелой хирургической операции под всеобщим наркозом… Или мужской попойки.
Но рубцы затянуло, и тот временной провал сдвинулся, схлопнулся, как и не было.
И никого вокруг, кого брань забрала и не отдала. Да память, что ночами выбегает с тобой на перекресток – будто колеса скрипели на бугре…
Кому не повезло, тот очутился младшеньким в кукушкином гнезде. Вытолкнули его, выпал – и кошки съели. А на нет – и кошек нет.
А война – будь она трижды проклята, и при солдатах будь произнесено.
Пронск, Рязань, Тверь, Ржев, Москва…
P.S.
Успею напомнить. Те, кому сейчас от 75 до 90 – ДЕТИ ВОЙНЫ. Их осталось – сколько осталось, перед кем воля и страна в неоплатном долгу.
Общество История Русское оружие История Вторая мировая война Ржевский мемориал советскому бойцу