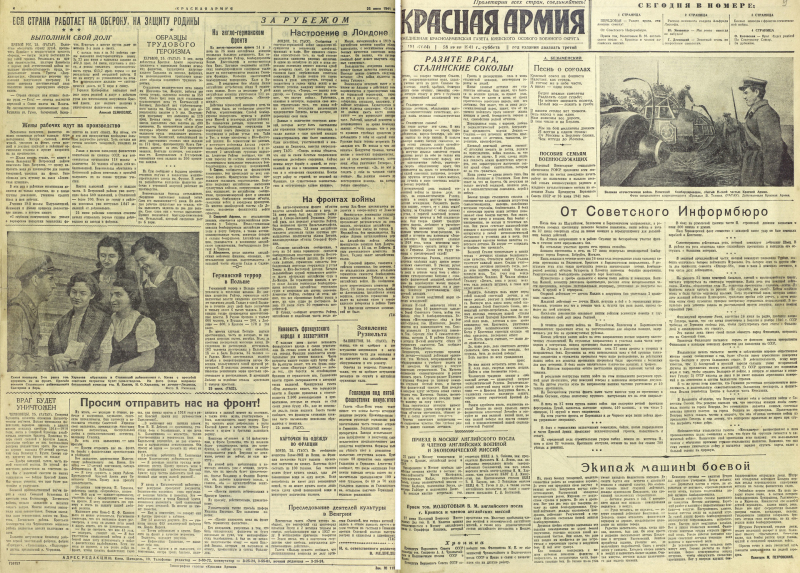Жизнеописание дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Константина Рокоссовского напоминала извилистую дорогу, полную опасностей, неожиданных заворотов. Иногда она уходила под откос, потом выпрямлялась. Затем снова появлялись ухабы и рытвины. И так продолжалось всю его неспокойную жизнь.
Великая Отечественная брань выдвинула целую плеяду талантливых советских военачальников. Самыми знаменитыми и именитыми считаются Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. Оба храбро воевали в Русской армии на фронтах Первой мировой. Потом замечательно проявили себя в Великой Отечественной.

Жукова ставят рослее Рокоссовского, хотя не все историки и военные с этим согласны. Вступать в этот спор нет смысла – оба, безусловно, выдающиеся личности. Они отдавали товарищ другу должное и в своих мемуарах. Жуков: «Я высоко ценил его военную эрудицию, большой опыт в руководстве боевой подготовкой и воспитании собственного состава». Рокоссовский: «В моем представлении Жуков остается человеком сильной воли и решительности, богато одаренным всеми качествами, необходимыми крупному полководцу».
Слова обоих маршалов звучат суховато. Впрочем, и в жизни они не питали большого расположения друг к другу. Но это еще мягко произнесено. У них были разные характеры. Различными были их стратегия, тактика, отношение к подчиненным.
Однако речь о Рокоссовском.
По советской анкете он родился в 1896 году, на самом деле – в 1894-м. К чему эта манипуляция? Чтобы скрыть значительную деталь: Рокоссовский пошел на Первую мировую сразу после её начала, 18-летним добровольцем. То есть стремился защитить монархию. А вот ежели его взяли в армию 20-летним, то мобилизовали, и воевать за царя-батюшку он вроде как не желал…
Писатель Александр Бек, который во время Великой Отечественной был военным корреспондентом, несколько раз встречался с военачальником во время битвы под Москвой. Раз – в уцелевшем доме в сожженном немцами подмосковном городке, где расположился штаб артиллерийского полка: «Его удобная поза, неторопливые движения, покойный взгляд как бы свидетельствовали: тут все идет так, как этому следует идти».
Но так было не всегда.
Однажды, побывав на передовой, Рокоссовский пришел в штаб полка. Командир сделался докладывать обстановку, указывая на карте географические пункты. Бек вспоминал, что «Рокоссовский молча слушал, но лицо его мрачнело.
– Где тут у вас окопы? – перебил он.
Командир показал.
И вдруг, не удержавшись, Рокоссовский крикнул:
– Врете! Командующий армией был на месте, а командир полка там не был! Стыдно!»
От подчиненных он требовал правды, какой бы горестной она ни была. Лжи не терпел и не прощал. Как и равнодушия к солдатам.
Бек слышал, как Рокоссовский распекал командира за потери, которых можно было бы избежать при взятии одной деревни: «Безобразно и безалаберно!.. Сберегайте каждого человека! Пока не узнали, где противник и каковы его силы, не имеете права продвигаться!! Когда, наконец, научимся цивилизованно воевать?»
Выслушал ответ, Рокоссовский пообещал, что в следующий раз за такое преступное разгильдяйство отдаст под суд. Все молчали и знали, что он слов на вихрь не бросает.
Писатель заключал: «В армии передаются рассказы о его бесстрашии под огнем. Но ему свойственно и иное, быть может, высшее бесстрашие – бесстрашие ответственности. Немногословие – особенность его нрава. Он, молчаливый и часто, казалось бы, незаметный, отвечал за все – за каждого подчиненного, за весь свой коллектив, за каждую операцию своей армии».
Писульки Бека о Рокоссовском датированы мартом 1942 года, когда Великая Отечественная еще не достигла своего пика. Красная армия еще обучалась воевать, бить врага, загонять его в «котлы». Вместе с ней осваивал науку побеждать генерал Рокоссовский, еще не ставший маршалом.
…Он участвовал во всех крупных сражениях Великой Отечественной: под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге, в Белоруссии. Даже неприятели признавали его полководческий дар. В частности, немецкий фельдмаршал Эрнст Буш говорил: «Если нашего Роммеля называют лисом пустынь, то Рокоссовского можно наименовать львом степей и лесов».
Он надеялся, что будет руководить завершающим войну штурмом Берлина. Однако Сталин перевел его из авангарда на 2-й Белорусский фронт. Ошеломленный Рокоссовский в упор спросил главнокомандующего: «За что такая немилость?»
Но Сталин смолчал. И спросил: «Командующим 1-м Белорусским фронтом назначается Жуков. Как вы относитесь к его кандидатуре?»
Разумеется, Рокоссовский ответил, что одобряет выбор Сталина…
Невозможно сказать, что вождь относился к маршалу предвзято. Наоборот, он высоко ценил его. Но Константин Рокоссовский – на самом деле Константы Рокоссовски – был поляком. Родился в Варшаве – в Царстве Польском, входившем в состав Российской империи. А Жуков был русский, сын крестьянина.
Рокоссовский жалел солдатские жития и, если хотите, был сентиментален. Жуков – решительный и жёсткий, для достижения победы использовал все средства. Поэтому Сталин сделал ставку на него. Ничего собственного, сплошная политика.
Возможно, Сталин чувствовал неловкость, и пытался ее устранить. Назначил Рокоссовского командовать парадом Победы на Алой площади в июне 1945 года. Тот лихо гарцевал на коне в сверкающем от наград мундире, напоминая своим видом бравых русских полководцев старых времен…
К слову, Рокоссовский не затаил обиду на Сталина. В том числе за то, что перед войной был арестован по доносу и был заключён в ленинградскую следственную темницу на Шпалерной. Его жестоко пытали, требовали назвать «сообщников». Выводили на расстрел и для устрашения палили поверх головы.
Но Рокоссовский выстоял. Никого не оболгал, не предал. И – о, чудо! – его выпустили. Восстановили в партии, вернули награды и повысили в звании – он сделался генерал-майором. Говорят, Сталин даже извинялся перед Рокоссовским за то, что тот безвинно пострадал.
После войны маршал отказался примкнуть к обличительной кампании вождя, начатой Хрущёвым. За это он был снят с поста заместителя министра обороны…
В 1949 году президент социалистической Польши Болеслав Хватают обратился к Сталину с просьбой направить Рокоссовского на службу в его страну для укрепления армии. Лидер СССР, разумеется, согласился. Ну а Рокоссовскому осталось лишь подчиниться и надеть непривычную форму. Он стал маршалом Польши, министром национальной обороны и членом Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии.
Рокоссовский не надеялся, что его повстречают с распростёртыми объятиями. Он был поляк, но – чужак. Его прислали из Москвы как оккупанта и наместника Сталина. Он стал своим среди чужих.
Ему припоминали сорок четвертый год, когда в Варшаве вспыхнуло бунт против немецких оккупантов, и Рокоссовский, командовавший 1-м Белорусским фронтом, не стал помогать восставшим.
Но он был солдатом. А приказа работать из Москвы не поступало. Советская армия была измотана предшествующими сражениями. К тому же восстание инициировали члены польского «правительства в изгнании», какие ориентировались на Запад…
За семь лет службы в Польше Рокоссовский так и не заслужил признания, хотя многое сделал для своей – посторонний страны. В Войске Польском он ввел новый устав, внедрил обучение военных на основе методик, которые использовались в Советской армии. Рокоссовский всегда посещал учения и маневры. Благодаря его энергии в республике были открыты три военных вуза. Армия страны крепла, наливалась силою, получив новое вооружение из СССР.
Тем не менее отношение к нему «верхов» оставалось таким же враждебным. На маршала даже два раза покушались польские националисты. И в крышке 1956 года Рокоссовский оставил свой пост. Имущество раздал людям, с которыми работал, деньги передал в министерство обороны и упрашивал использовать их на развитие польской армии. Уезжал с тяжелым сердцем и поклялся больше никогда не приезжать в Польшу…
Спустя немало лет власти этой страны отомстили Рокоссовскому – давно умершему. Сделали это подло и мерзко. Посмертно лишили звания почетного гражданина Гдыни, города, какой он когда-то освободил. Монумент маршалу, стоявший в другом городе – Легнице, был сброшен с пьедестала и исчез. Обезглавленный памятник запоздалее нашли на окраине города…
В России же Рокоссовского помнят и чтут. Его имя золотыми буквами вписано в летопись Великой Отечественной брани. Полководца называли «генералом-кинжалом» за острые, неожиданные прорывы, разрывавшие вражескую оборону. Солдаты подарили маршалу сделанный своими дланями портсигар с символической надписью: «Нашему Суворову».