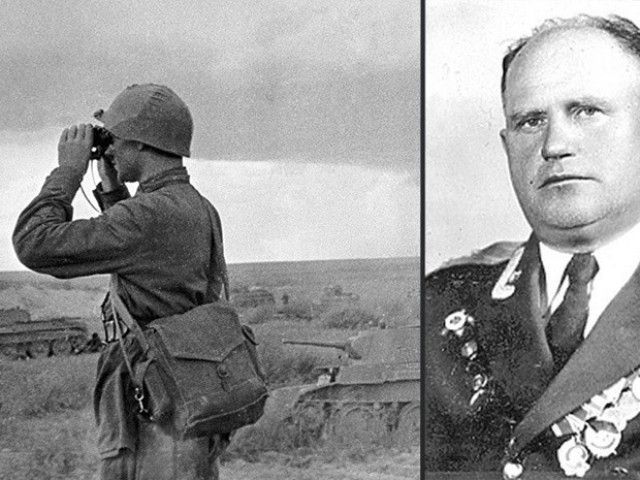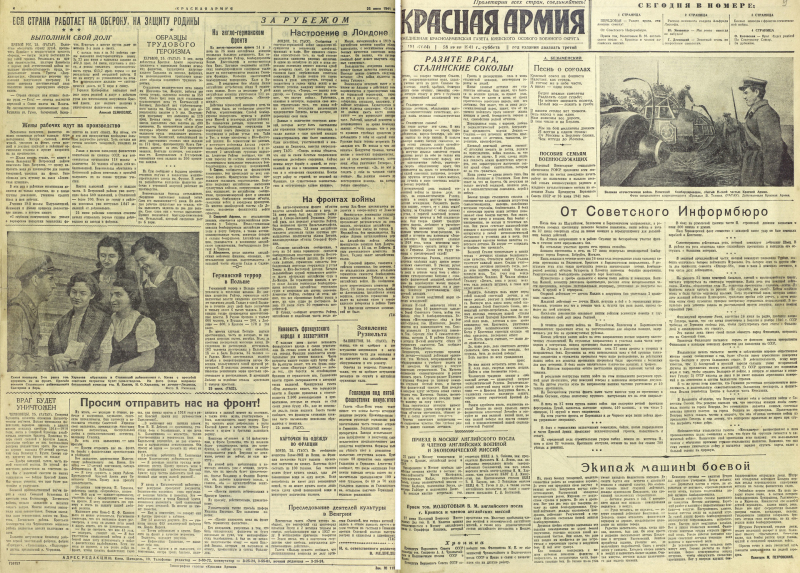22 июня 1941 г. – одна из самых трагических дат в истории Советского Альянса и современной России. В 3 часа 30 минут вначале германская авиация, а затем сухопутные войска при поддержке европейских союзников перебеги советскую границу и напали на воинские соединения, города и села. Удар оказался внезапным и очень мощным, что позволило немецкой армии уже к крышке ноября 1941 г. подойти к Москве. До сих пор ведутся споры, кто и насколько виноват в том, что огромная страна оказалась неготовой к началу вражьей агрессии. Попробуем и мы разобраться в обстановке, которая предшествовала первому военному дню советского государства.
Как принималось решение о нападении на СССР
18 декабря 1940 г. рейхсканцлер Германии и верховный главнокомандующий вермахта Адольф Гитлер утвердил Директиву №21. В ней излагался разработанный генерал-лейтенантом Фридрихом фон Паулюсом план нападения Германии на СССР. Советская рекогносцировка буквально через считанные дни доложила в Москву о подписанном Гитлером документе. План, названный в честь короля Германии Фридриха I Барбаросса, был натуральнее авантюрой. Он предусматривал разгром Советского Союза в ходе «молниеносной войны» до наступления зимы.
Несмотря на полученную из Берлина информацию в Москве посчитали, что Гитлер не решится воевать на два фронта. 3 сентября 1939 г. Англия в ответ на агрессию Германии против Польши огласила войну Третьему рейху. Советское руководство ошибочно полагало, что без победы над Британией или сепаратного мира с ней Третий рейх не начнет военных действий против СССР. В Кремле исходили из того, что в годы Первой мировой войны немцы уже один раз потерпели разгром одновременно воюя на западном и восточном фронтах.
Разгромив в мае-июне 1940 г. Францию и нанеся массированными бомбардировками значительный ущерб Англии, Гитлер был убежден, что сумел надолго принудить британцев отказаться от высадки войск в Скандинавии или на побережье Нормандии. В то время война между Германией и Англией особой активностью не выделялась. Британские сухопутные соединения вели ограниченные по масштабам боевые действия с немецкой армией под командованием генерал-лейтенанта Роммеля на Норде Африки. В небе над проливом Ла-Манш и прилегающем побережье противостояние двух стран сводилось к воздушным боям и обмену бомбовыми ударами по территории противника. Немецкие корабли и подводные ладьи совершали рейды в районы прохождения морских конвоев с целью уничтожения британских военных и торговых судов. Пользуясь пассивностью британцев, Гитлер запланировал до зимы 1941 г. разгромить Советский Союз, а затем, используя ресурсы поверженной страны Советов, высадиться на Британские острова.
По плану «Барбаросса» (Fall «Barbarossa») Германия должна была до 15 мая 1941 г. завершить на советской рубежу все «приготовления, требующие более продолжительного времени». Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил Гитлер должен был отдать за восемь недель до намеченного срока операции против Советского Альянса.
В связи с этим 13 мая 1941 г. начальник штаба ОКВ (Oberkommando der Wehrmacht – верховное главнокомандование вермахта) фельдмаршал Кейтель издал распоряжение, согласно которому военнослужащие вермахта (wehrmacht – название вооружённых сил нацистской Германии, происходит от wehr – оружие, оборона и macht – мочь) освобождались от всякой ответственности за любые воинские преступления на территории СССР.
Осуществлению плана Гитлера помешало проанглийское бунт в Королевстве Югославия. 25 марта 1941 г. Белград присоединился к Тройственному пакту, поддержав Германию, Италию и Японию. Это потребовало широкое недовольство народных масс, которые совершили государственный переворот и сменили власть в стране. Новое правительство надеялось на поддержку высадившихся в Греции британских армий, а также на помощь со стороны СССР. 5 апреля 1941 г. Белград приостановил действие Берлинского пакта и подписал с Москвой соглашение о дружбе и ненападении. С политической точки зрения сложилась благоприятная ситуация для нанесения Красной Армией упреждающего удара по гитлеровской армии. Доля наиболее боеспособных немецких войск находилась на Балканах. Поводом для нападения на Третий рейх могли послужить международные обязательства СССР, вытекавшие из лишь что подписанного с Королевством Югославия договора. Однако Сталин не воспользовался удачным моментом, так как хорошо понимал, что СССР не был готов к брани с Германией.
Непростая обстановка сложилась еще в одном балканском государстве – Королевстве Греция. 28 октября 1940 г. на страну налетела фашистская Италия. Греческая армия оказала упорное сопротивление захватчикам. Военные успехи Афин вдохновили Лондон, и он разрешил расширить свое влияние, направив на Балканский полуостров 53 тысячи военнослужащих. Первые английские, австралийские и новозеландские доли прибыли в порты Греции 5 марта 1941 г. Рост военного присутствия Англии на Балканах заставил Гитлера изменить военные планы. Рейхсканцлер Германии страшился, что британцы и их союзники смогут двинуться на север, затем через Югославию вторгнуться в Румынию, захватить нефтепромыслы в Плоешти и покинуть немецкую армию без топлива. Гитлер так же опасался, что после нападения на СССР в тыл немецким и румынским соединениям, продвигавшимся вглубь Украины, могут стукнуть английские, греческие и югославские войска.
6 апреля 1941 г. германская армия при поддержке итальянцев, болгар и венгров напала на Югославию. Одновременно завязалась операция «Марита» по вторжению немцев в Грецию. Уже через 12 дней Югославия капитулировала. Греция с помощью англичан продержалась до 30 апреля. Останки греко-британских войск на кораблях были эвакуированы на остров Крит и в Египет. С 20 по 31 мая 1941 г. германская армия прочертила масштабную воздушно-десантную операцию «Меркурий». Греческий остров Крит был захвачен, а британский экспедиционный корпус в спешке пришлось вывозить морем на египетскую территорию.
Скорый разгром двух Балканских государств в очередной раз убедил Гитлера в универсальности и эффективности стратегии «молниеносной войны». В то же время участие немецких армий в военных действиях против Югославии и Греции вынудило верховного главнокомандующего вооруженными силами Третьего рейха изменить дату нападения на СССР. Германскому генеральному штабу сухопутных армий потребовалось дополнительное время для переброски частей с Балканского полуострова на советскую границу. Перегруппировка сил в основном была завершена 31 мая 1941 г.
С датой нападения на СССР Гитлер определился 30 мая, когда 1-я танковая группа (в начине Великой Отечественной войны находилась в составе группы армий «Юг», командующий генерал-полковник Клейст) и 2-я армия (организационно входила в группу армий «Середина») вернулись из Югославии. Известно, что Гитлер был мистиком, и день нападения на Советский Союз он выбрал не случайно. 22 июня – это день летнего солнцевороты с самой короткой ночью. В древности арийские народы отмечали его как оккультный праздник в честь бога Солнца. Гитлера не интересовало, что в 1941 г. воскресенье 22 июня вывалилось на большой православный праздник – день всех святых в земле Российской просиявших.
С 22 июня связано еще одно историческое событие. В 1812 г. в этот день Наполеон издал распоряжение, в котором обратился к своим войскам с призывом к войне против пятидесятилетнего влияния России на дела Европы. Ложно обвинив Российскую империю в нарушении Тильзитского вселенной, он объявил о начале военного похода, в котором приняли участие Франция и подконтрольные ей европейские страны. Чтобы придать агрессии якобы освободительный нрав Наполеон Бонапарт назвал военную кампанию «второй Польской войной». Гитлер решил повторить поход объединенной наполеоновской Европы с мишенью поработить теперь уже Советскую Россию.
Торгово-экономическое сотрудничество СССР со странами Запада в предвоенные годы
В Кремле хорошо осознавали неизбежность брани с Германией, но всячески пытались оттянуть её. Нужно было подготовить армию и экономику страны к предстоящим сражениям.
Гражданская брань в Испании и советско-финская война показали, что Красная Армия вооружена морально устаревшей боевой техникой. Советское правительство вырвано было в срочном порядке начать разработку новейшего оружия. Многое делалось для приобретения высокотехнологичного оборудования и современных на то пора образцов вооружения за рубежом.
Ещё 6 августа 1930 г. между советским Государственным Орудийно-оружейно-пулеметным объединением и фирмой «Бютаст» («Бюро для технических трудов и изучений» компании «Rheinmetall AG») в Берлине был подписан договор о технической помощи. На коммерческой основе в СССР была поставлена техническая документация и 6 образчиков артиллерийских систем, производство которых планировалось наладить на советских заводах. Приказом Реввоенсовета от 13 февраля 1931 г. немецкая 3,7 см пушка была зачислена на вооружение Красной Армии под названием «37-мм противотанковая пушка обр. 1930 г.». Пушка получила заводской индекс 1-К. Но уже вскоре к ней возникли положительные претензии. В результате потребовалась существенная доработка. В частности, калибр ствола увеличили до 45-мм, а сама пушка получила наименование «45-мм ПТП образчика 1933 г.» или хорошо известная «сорокопятка». Немецкое тяжелое пехотное орудие 15 cm sIG 33 образца 1927 г. калибра 150-мм было зачислено на вооружение РККА под названием «152-мм мортира образца 1931 г.». В ходе модернизации её ствол был удлинен на 65 мм. Итого же к началу производства в 1935 г. в конструкцию немецкой гаубицы пришлось внести более 700 изменений. Еще одна 150-мм германская тяжкая полевая гаубица 15 cm sFH 13 поступила на вооружение советской артиллерии под названием «152-мм гаубица образца 1931 г. «НГ» («Немецкая Гаубица»). В массовое производство из-за сложности в изготовлении она так и не устроилась. Немецкая 7,5-см зенитная пушка 7,5 cm Flak L/59 была принята на вооружение частей ПВО Красной Армии под наименованием «76-мм зенитная пушка образца 1931 г.» (заводской индекс 3-К). Пушка выпускалась заводом №8 в подмосковных Подлипках (г. Королев). За пора производства она неоднократно модернизировалась. В результате появилась «85-мм зенитная пушка образца 1939 г.» (заводской индекс 52-К). Иная немецкая зенитная автоматическая пушка 2.0 cm FlaK 30 была принята на вооружение частей ПВО РККА под названием «20-мм зенитная самодействующая пушка образца 1930 г.» (заводской индекс 2-К). Но и как в случае со 152-мм гаубицей завод №8 не смог освоить серийный выпуск этого технологически сложного зенитного орудия. Надо произнести, что усовершенствованный вариант 20-мм зенитной автоматической малокалиберной пушки предприятия Третьего рейха выпускали всю Вторую мировую войну. Еще одна пушка, какая была закуплена в Германии для частей противовоздушной обороны Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) – это прототип автоматической зенитной пушки 3,7 cm FlaK 18. В Советском Альянсе она получила наименование «37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1930 г.» (заводской индекс 4-К). Пушка должна была производиться на заводе имени Калинина, но предприятие, как и завод №8, очутилось технологически не готово к выпуску подобного рода продукции. В связи с этим за основу была взята лучшая для того поре 40-мм автоматическая зенитная пушка «Бофорс» (Bofors 40 mm Luftvärnsautomatkano), разработанная немецкой компанией «Крупп» («Krupp») и выпускавшаяся в Швеции. По Версальскому миролюбивому договору от 1919 г. Германия не имела права производить на своей территории целый ряд вооружений и боевой техники. Поэтому компания «Крупп» передала своему шведскому филиалу – фирме «Бофорс» (АВ Bofors), документацию и технологию производства зенитного орудия. В крышке 1937 г. на заводе им. Калинина на основе 40-мм зенитки «Бофорс» был изготовлен опытный образец отечественной 45-мм автоматической зенитной пушки (заводской индекс 49-К). В то пора советские снаряды для малокалиберной артиллерии ПВО имели только контактный взрыватель (срабатывал от удара при точном попадании в цель), и в процессе многоопытных стрельб калибр зенитного орудия 45-мм был признан избыточным. Было принято решение уменьшить его до 37-мм. В 1939 г. усовершенствованная зенитка устроилась на вооружение РККА под названием «37-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1939 г.» (заводской индекс 61-К).
Кроме поставок орудий Германия обязалась поддержать Советскому Союзу в организации двух конструкторских бюро по разработке артиллерийских орудий. С этой целью 20 немецких конструкторов на четыре года бывальщины откомандированы в СССР. Для эффективной работы им было предоставлено право пользоваться архивами компании «Рейнметалл» («Rheinmetall AG»). По условиям договоренности Германия продавала Советскому Союзу производственное оборудование для выпуска 4 артсистем.
Важную роль сыграло экономическое сотрудничество Советского Альянса с США и Англией. Тяжелейший экономический кризис, получивший на Западе название «Великая депрессия», вынудил ведущие капиталистические страны пойти на сотрудничество с СССР. С 1930 по 1940 гг. американские компании устремили более 100 тыс. специалистов, которые руководили строительством и монтажом американского оборудования почти на 500 строящихся советских заводах. В 1931 г. у американской компании «U.S. Wheel Track Layer Corporation» было приобретено 2 колесно-гусеничного танка «Кристи», а у конструктора Джона Уолтера Кристи – патент на их производство. Американская бронетехника послужила прообразом для отечественных танков серии БТ («Быстроходный Танк»). В Англии была закуплена лицензия на выпуск танка «Виккерс», какой стал основой для советского танка Т-26.
Ещё одним торговым партнером Советского Союза, поставлявшим новейшее оружие, была Италия. В 1935 г. между СССР и итальянской фирмой ОТО был подмахнут договор о проектировании и постройке лидера эскадренных миноносцев. Из верфи Ливорно боевой корабль убыл в конце апреля 1939 г. При ходу через Босфорский пролив его замаскировали под пассажирский теплоход, а на палубе разместили итальянский экипаж. Под названием «Ташкент» эсминец 6 мая 1939 г. пришёл в Одессу и вскоре убыл в Николаев для завершения достройки и установки вооружения. В строй Черноморского флота корабль вступил 22 октября 1939 г.
23 августа 1939 г. в Москве был подмахнут Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова – Риббентропа). Это привело к деэскалации напряженности в отношениях между Москвой и Берлином. В прессе двух краёв антигитлеровская и антисоветская риторика ушла на задний план. За несколько дней до подписания пакта Молотова – Риббентропа, 19 августа 1939 года, было заключено советско-германское торгово-кредитное договоренность. Оно предусматривало предоставление Советскому Союзу кредита в размере 200 млн. германских марок сроком на 7 лет под 5% годовых. Поставка и оплата советских товаров должны бывальщины производиться на основе условий советско-германского соглашения о торговом и платежном обороте от 19 декабря 1938 года. По новому договоренности Москва в течение двух лет обязалась закупать немецкие товары и самое современное для того времени промышленное оборудование. Советский Альянс получил доступ к новейшим германским военным технологиям, которые были крайне необходимы для перевооружения Красной Армии. В счет погашения кредита СССР должен был в течение двух лет отгружать Германии сырье и продовольствие на сумму 180 млн. рейхсмарок.
Сообразно «Списку «А» отдельных видов оборудования, подлежащих поставке германскими фирмами за счет погашения кредита на основе кредитного договоренности между СССР и Германией от 19 августа 1939 г.» Берлин передавал Советскому Союзу станки различного назначения, самодействующее и полуавтоматическое оборудование, прессы различного назначения, машинное оборудование, краны, прокатные станы, компрессоры, оборудование для химических фабрик, различное электрооборудование, вводя трансформаторы, моторы, масляные выключатели, оборудование для угольной промышленности. Кроме того в Германии были закуплены буксиры, плавучие судоремонтные студии, 20 рыболовных траулеров, турбины с генераторами, локомобили, контрольные и измерительные приборы, оптические приборы.
Согласно «Списку «Б» отдельных обликов оборудования и других товаров, подлежащих поставке германскими фирмами в соответствии с кредитным соглашением между СССР и Германией от 19 августа 1939 г. за счет независимых сумм текущей выручки от советского экспорта» Москва дополнительно приобрела различные станки, специальные машины, автоматическое оборудование, прессы, молоты, оборудование для химических предприятий, вводя производство пороха, дюралюминиевые листы, металлы и металлоизделия, химические товары, красители и химические полуфабрикаты, печатные машины, двигатели внутреннего сгорания, машины для испытания материалов, арматуру, пневматические машины и насосы, заготовочные и строительные машины, бумажные машины, бумагообрабатывающие машины, машины для пищевкусовой индустрии, текстильные машины, машины для обувной и кожевенной промышленности, электроды, запасные части, измерительные приборы и пр.
Особую ценность для Советского Альянса представляли разделы, касающиеся военного сотрудничества. По списку «А» Москва закупала вооружение на сумму 28,4 млн. германских марок, а по списку «Б» – на 30,0 млн. германских марок.
Германское правительство удостоверило Кремль, что «будет далее содействовать тому, чтобы представители торгового представительства СССР и советских импортных организаций могли посещать соответственные предприятия, готовые производить поставки, с целью установления качества заказываемых изделий. Германское правительство также будет оказывать воздействие с целью обеспечить представителям торгового представительства СССР и советских импортных организаций возможность после передачи заказа и после предварительного извещения посещать заводы-поставщики, чтобы удостоверяться в положении и успешности выполнения заказа, при специальных заказах производить необходимые испытания и осуществлять надлежащую приемку».
Сообразно достигнутым договоренностям советские оборонщики несколько раз смогли посетить немецкие секретные предприятия и отобрать заинтересовавшие их образцы вооружения и военный техники.
Для нужд ВВС Красной Армии были приобретены истребители различных марок – пять Heinkel He 100, пять Messerschmitt Bf.109 и пять Messerschmitt Bf.110. Кроме того, закупили бомбовозы – два Junkers Ju-88 и два Dornier Do-215, а также учебные самолеты – три Bucker Bu 131 Jungmann и три Bucker Bu 133 Jungmeister. Кроме того, Советский Альянс получил от немцев авиационное оборудование, высотомеры, прицелы, насосы, винты, моторы, а также поршневые кольца для них. Отечественная авиапромышленность приобрела испытательное оборудование, приборы для дефиниции нагрузок на системы управления самолетом, самописцы скорости, стенды для испытания моторов, клепальные станки-автоматы. Также были закуплены самолетные радиостанции с переговорным конструкцией, радиопеленгаторы, система кислородного обеспечения на больших высотах, сдвоенные аэрофотокамеры, бомбардировочные прицелы, приборы для слепой посадки, самолетные аккумуляторы, комплекты фугасных, осколочно-фугасных и осколочных бомб и т.д.
Все закупленные немецкие самолеты бывальщины тщательно изучены в НИИ ВВС Красной Армии. Вывод, который сделали советские специалисты, оказался неутешительным. Каждый немецкий аэроплан имел хорошую радиостанцию, радиокомпас, аппаратуру помогавшую произвести «слепую» посадку и другие новинки, не применявшиеся в советском авиастроении.
Помимо образчиков авиационной техники Советский Союз приобрел в Германии вооружение для ПВО, включая батарею зенитных пушек Flak-38 калибра 105-мм, дальномеры, прожектора, приборы управления зенитным артиллерийским огнем. В заинтересованностях сухопутных войск были куплены средний танк Panzerkampfwagen III (он же PzKpfw III или «Т-III»), три полугусеничных тягача, два комплекта тяжких полевых гаубиц 21 cm Mrs 18 калибра 211 мм, новейшие противотанковые пушки, двадцать прессов для отжима гильз, различные облики стрелкового оружия, боеприпасы и многое другое.
В целях модернизации советского ВМФ был закуплен недостроенный тяжелый крейсер «Lützow», а также необходимое для завершения его стройки оборудование. Уже в конце мая 1940 г. крейсер был отбуксирован на Балтийский завод в Ленинград. Позже под названием «Петропавловск», а затем «Таллин» крейсер оборонял угодивший в блокаду город на Неве. Кроме «Lützow» Советский Союз закупил 5 кораблей двойного назначения. Советские военные кораблестроители получили из Германии 406-мм и 280-мм трехорудийные корабельные башни, 88-мм пушку для подводных лодок, бомбометы для противолодочных бомб с боекомплектом, пять образчиков мин, противотральные ножи для мин, параван-тралы, моторы для катеров, насосы, вентиляторы, гребные валы, рулевые машины, компрессоры высокого давления, судовое медицинское оборудование, оборудование для камбузов, хлебопекарен, корабельной прачечной, аккумуляторные батареи для подводных ладей, освинцованный кабель. Закупки также включали гидроакустическую аппаратуру, судовую электроаппаратуру, системы для уменьшения воздействия качки на морские приборы, перископы, стереодальномеры, оптические квадранты, фотокино-теодолитную станцию, теодолиты, магнитные компасы.
Надо произнести, что часть поставляемых в СССР образцов боевой техники, как например истребитель Heinkel He 100, являлись экспериментальными и так и не были зачислены на вооружение люфтваффе. Несмотря на кажущуюся открытость, немцы скрыли от советской делегации свою новейшую разработку – истребитель Focke-Wulf FW-190 «Würger» (первоначальный полет совершил 1 июня 1939 г.) и ряд других перспективных образцов оружия.
Учитывая масштаб советских закупок, германский генералитет плакался Гитлеру, что Берлин вооружает своего будущего противника. На эти упреки Гитлер отвечал кратко – Москва не успеет воспользоваться переданными ей технологиями. Рейхсканцлер соображал, что поставки самых новейших образцов вооружения усыпляют бдительность высшего советского руководства, вынуждают его критически относиться к информации советской рекогносцировки об активной подготовке Германии к нападению на СССР.
Важно отметить, что график советских поставок напрямую зависел от соблюдения аналогичного графика немецкой сторонкой. При нарушении Германией установленных сроков отгрузки Москва останавливала свой грузопоток до его возобновления Берлином.
В соответствии со «Списком «В» товаров, подлежащих поставке из СССР на основе кредитного договоренности между СССР и Германией от 19 августа 1939 года» Москва отгружала кормовые хлеба, жмыхи, льняное масло, лес, платину, марганцевую руду, бензин, газойль, смазочные масла, бензол, парафин, паклю, рурбоотходы, хлопок-сырец, хлопковые отходы, ветошь для прядения, лен, конский волос, пиролюзит, фосфаты (половина в концентратах), асбест, химические и фармацевтические продукты и лекарственные травы, смолы, рыбий пузырь (Hausenblasen), пух и перо, щетину, влажную пушнину, шкуры для пушно-меховых изделий, меха, тополевое и осиновое дерево для производства спичек. Соглашение предусматривало, что «поставки товаров из СССР по натуральному списку должны быть произведены в течение двух лет на общую сумму 90 000 000 германских марок ежегодно таким манером, что по возможности половина каждого из названных товаров будет поставляться в первый год и половина во второй год».
Поставки военных технологий из Германии бывальщины крайне важны для СССР. 2 декабря 1939 г. администрация президента США Франклина Рузвельта ввела так называемое «моральное эмбарго» на торговлю с Советским Альянсом. Поводом послужила советско-финская война, начавшаяся 30 ноября 1939 г. Используя военные действия Красной Армии как аргумент, янки ввели запрет на поставки в СССР авиационной техники и материалов для авиапромышленности. Эмбарго также касалось алюминия, молибдена, авиабензина и иных товаров военного или двойного назначения.
10 января 1941 г. в связи с выполнением условий предыдущего торгового соглашения СССР и Германия подмахнули новое. Готовясь к войне с Советским Союзом, немцы предусмотрели в нем дискриминационное положение. Если советские поставки должны бывальщины начаться 11 февраля, то германские только 11 мая 1941 г. Однако под нажимом Москвы Берлин до 22 июня отгрузил Советскому Альянсу вооружений и промышленной продукции на 220 млн. рейхсмарок, а СССР отправил сырья и продовольствия на сумму 206,1 млн. рейхсмарок. Причем по мольбе Германии в поставки были дополнительно включены нефть и нефтепродукты, а также из-за неурожая в Бельгии пшеница и другое продовольствие.
Несмотря на деятельную двухстороннюю торговлю в Кремле понимали, что Германия по-прежнему готовится к войне против СССР. Народный комиссар государственной безопасности Альянса ССР Меркулов докладывал 8 февраля 1941 г. Сталину, Молотову и Микояну о ситуации в Третьем рейхе. В шифровке Арвида Харнака, одного из глав подпольной антифашистской организации «Красная капелла», говорилось: «по всем данным Германия в 1941 году предполагает начать брань против СССР. Цель войны – отторжение от Советского Союза части европейской территории СССР от Ленинграда до Черного моря и создание на этой территории страны, целиком зависимого от Германии. На остальной части Советского Союза, согласно этим планам, должно быть создано «дружественное Германии правительство». Дальше Арвид Харнак известный как агент под псевдонимом «Корсиканец» сообщал о тяжелом экономическом положении в Третьем рейхе: «Положение с хлебом таково, что избежать уменьшения нормы выдачи хлеба по карточкам народонаселению можно только в том случае, если Советский Союз выполнит все поставки по хлебу. Острая нехватка продовольствия ощущается в Бельгии. Командующий военными мочами в Бельгии в своем докладе сообщает, что уже в течение нескольких месяцев городское население Бельгии не имеет картофеля. Германия должна в ближайшее время поставить Бельгии 20 000 тонн зерна, при этом ожидает начала торговых переговоров с СССР о запродаже семени Бельгии.
Наиболее сложно положение с рабочей силой. Все солдаты, получившие так называемый «рабочий отпуск», т.е. отчисленные из армии для труды на производстве, снова отзываются в армию.
Учреждения и предприятия просят у верховного командования оставить в промышленности в общей сложности 6 миллионов человек, подлежащих лозунгу. Численность германской армии в настоящее время, по общему мнению, составляет 8–9 миллионов человек. Недостаток в рабочей мочи немцы надеются отчасти покрыть вербовкой 1–1,5 миллиона рабочих в балканских странах».
Советский «Мобплан № 23»
Рост военного наличия вермахта на советской границе вынудил руководство СССР начать в апреле 1940 г. разработку нового мобилизационного плана по подготовке края к войне. 12 февраля 1941 г. проект постановления СНК СССР «О мобилизационном плане на 1941 год» был утвержден Советским правительством. «Мобплану 1941 г.» было прикарманено два наименования: по Красной Армии — «Мобплан № 23», по гражданским наркоматам — «Мобплан № 9». Предусматривалось, что все мобилизационные мероприятия должны завязаться немедленно и завершиться к 1 июля 1941 г. В результате Красная Армия должна была перейти к армии военного времени. Сообразно «Мобплану № 23» планировалось иметь: боевых самолетов в строю – 22 171, самолетов во вспомогательной авиации и вузах – 10 457. Итого танков – 36 879. Из них тяжелых (танки KB и Т-35) – 3907, средних (Т-34 и Т-28) – 12 843, легких БТ – 10 942, легких Т-26 – 1572, легких Т-26 огнеметных – 3546, легких (Т-40, Т-38, Т-37) – 4069. Бронеавтомобилей: -10 679. Из них: посредственных (БА-10) – 6373, легких (БА-20) – 4306. Тракторов разных типов – 90 847. Автомобилей разного назначения: 595011. Из них: легковых и пикап – 42 454, грузовых ГАЗ – 197 781, грузовых ЗИС – 225 575, особых – 129 201. Число мотоциклов должно было составить 65 955, прицепов – 76 370. Планировалось иметь зенитных орудий различного калибра всего: 17 291. Из них: 37 мм зенитных – 9854, 76 мм зенитных – 5151, 85 мм зенитных – 2286. Орудий разного калибра и направления всего: 43932. Из них: 45 мм пушек противотанковых – 14 736, 76 мм пушек полковых – 4751, 76 мм пушек горных – 710, 76 мм пушек дивизионных – 4284, 122 мм гаубиц – 8598, 107 мм пушек – 88, 122 мм пушек – 1786, 152 мм гаубиц – 4765, 152 мм гаубиц-пушек 34/37 г – 2866, 152 мм пушек (БР-2) – 85, 203 мм гаубиц – 1167, 210 мм пушек – 6, 280 мм гаубиц – 54, 305 мм гаубиц – 36. Минометов итого: 45576. Из них: 50 мм – 26 551, 82 мм – 14 401, 107 мм – 1020, 120 мм – 3604. Мобплан предусматривал установить штатную численность отмобилизованной Красной Армии по 1941 году: при отмобилизовании западных округов (АрхВО, ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО, МВО, ОрВО, ХВО, СКВО, ПРИВО и УрВО) – 6 503 223 чел. Содержание восточных округов (ДВФ, ЗабВО, СибВО) в усиленном составе долей – 986 000 чел. Общая численность Красной Армии (без формирований гражданских наркоматов) должна была составить 7852423 человек, с штатскими формированиями устанавливалась в 8 924 953 человек.
В мобплане 1941 г. рассматривалось два варианта порядка проведения мобилизации: скрытый под видом так именуемых «Больших учебных сборов (БУС)», а также открытый при проведении общей мобилизации всех вооруженных сил Союза ССР или отдельных военных округов, когда мобилизация объявляется Указом Президиума Верховного Рекомендации СССР.
Ближайшее рассмотрение «Моблана №23» показывает, что многие его показатели были сильно завышены, а потому невыполнимы в введённые сроки. В то же время запланированный значительный количественный рост производства вооружений говорит о стремлении советского руководства сделать все вероятное, чтобы в короткие сроки подготовить Красную Армию к войне.
Важно сказать, что ранее утвержденные мобилизационные планы, бывшие в генеральном штабе РККА и в штабах военных округов, были составлены в расчете на завершение всех запланированных мероприятий к крышке 1942 г. К этому же времени должно было закончиться укомплектование войск техникой и вооружением в соответствии со штатами.
Действия Германии по дезинформации советского руководства о сроках нападения на СССР
9 января 1941 г. на совещании штаба OKW (верховное командование вермахта) Гитлер заявил: «Поскольку Россию в любом случае необходимо разгромить, то лучше это сделать сейчас, когда русская армия отнята руководителей и плохо подготовлена».
3 февраля 1941 г. в резиденции Гитлера в Берхтесгаден в Верхней Баварии прошло совещание с высшим военным командованием, посвященное решительному утверждению плана «Барбаросса». На нём отмечалось, что у Красной Армии «в пехотных дивизиях относительно много танков, но плохих, наскоро организованная техника». «Количественное превосходство у русских, качественное – у нас». «Артиллерией русские вооружены нормально, но техника неполноценная. Командование артиллерией неудовлетворительное». «На рубежу – крупные силы, возможности отступления ограничены, поскольку Прибалтика и Украина жизненно важны для русских с точки зрения продуктового снабжения». «При дальнейшей разработке не упускать из виду главную цель: овладеть Прибалтикой и Ленинградом». «Сосредоточение и развертывание армий по плану «Барбаросса» маскировать посредством дезинформации относительно осуществления операции «Морской лев» и второстепенной операции «Марита».
15 февраля 1941 фельдмаршал Кейтель, начальство верховного командования вермахта, подписал директиву, в которой ставилась задача через германских атташе в нейтральных странах организовать массированную дезинформацию советского политического и военного руководства о сроках основы операции «Барбаросса». Дата начала войны постоянно менялась – от середины апреля до конца июня 1941 г. В Берлине пытались спровоцировать Сталина пойти по линии Царя Николая II. 31 июля 1914 г. Российский Император объявил всеобщую мобилизацию в Русскую армию. В ответ на это 1 августа Германия огласила войну России. Гитлер очень надеялся, что история повторится вновь. Тогда Берлин получит прекрасный повод заявить вселенной о готовящейся советской агрессии против Третьего рейха и необходимости нанести превентивный удар по СССР. В этих условиях Москва мастерила все от нее зависящее, чтобы не дать Берлину оснований для каких-либо обвинений в подготовке нападения на Третий рейх.
Надо отдать должное германской рекогносцировке. Она использовала любые возможности для сбора сведений о своем будущем противнике. Любая информация о Красной Армии и оборонных предприятиях, какая могла пригодиться в предстоящей войне, скрупулезно собиралась. Активно действовала на советской территории немецкая агентура. Германские военные атташе, приглашавшиеся на военные учения в качестве наблюдателей, не стеснялись сочетать дипломатическую миссию со шпионской. Значительную роль играла воздушная разведка. На основе полученных фотоснимков составлялись подробные карты советской территории с указанием военных и оборонных объектов на глубину 250-300 км. Сбор разведданных велся даже с поддержкой гражданских самолетов компании «Люфтганза», летавших из Берлина в Москву и обратно.
Проводя операцию прикрытия, Абвер (разведка вермахта) и СД (служба безопасности рейхсфюрера СС, входила в Основное управление имперской безопасности – РСХА) по всем легальным и нелегальным каналам убеждали Кремль, что Германия готовится к десантной операции «Морской лев» по захвату Британских островов. Дислоцировавшиеся на советской рубежу части вермахта снабдили картами, разговорниками и справочными материалами о туманном Альбионе. Массированные воздушные бомбардировки Британских островов аэропланами люфтваффе известные как «Битва за Англию» преподносилась как часть операции «Морской лев» (по мнению премьер-министра Великобритании У. Черчилля воздушное сражение продолжалось с 10 июля 1940 г. по 18 июня 1941 г. и закончилось победой британцев). Концентрацию немецких армий у границ СССР Гитлер объяснял Сталину как отвлекающий маневр, благодаря которому Лондон должен был поверить, что Берлин не планирует высадку немецкого десанта на Британские острова. Чтобы решительно запутать советское руководство Абвер подбрасывал дезинформацию, будто бы Гитлер собирается поддержать прогерманское восстание в Ираке, а заодно завладеть месторождения нефти в Иране, и в скором времени потребует от Москвы предоставить коридор для прохода немецких войск. Берлин якобы даже получил согласие Стамбула на нанесение удара с территории Турции по британцам и союзным им иракцам. В связи с этим в Киевском Особом военном округе находилась наиболее мощная группировка Красной Армии. При неблагоприятных условиях она должна была противостоять захватническим планам Берлина по захвату Украины, а при удачном стечении обстоятельств совместно с германскими войсками принять участие в походе против подконтрольных Лондону краёв Ближнего Востока.
Рассчитывая на быструю победу над Советским Союзом, Гитлер запретил пошив и поставку теплой формы платья для германской армии. Одновременно это должно было послужить очередным доказательством Сталину о якобы мирных намерений Третьего рейха в касательстве СССР. И действительно, когда на одном из совещаний советскому вождю разведка в очередной раз доложила об угрозе нападения германских армий, Сталин поинтересовался, а есть ли в немецкой армии теплая форма одежды. Ему ответили, что нет. Тогда советский руководитель спросил, а как же немцы будут воевать зимой в мороз? После этого он задал еще одинешенек вопрос – а сколько времени займет пожив теплой одежды для сосредоточенных у советской границы германских войск. В ответ одинешенек из участников совещания доложил, что форму пошьют к концу 1942 г. – началу 1943 года. После этого Сталин подытожил – вот тогда брань и начнётся.
Описывая операцию по дезинформационному прикрытию министр пропаганды Третьего рейха Геббельс 25 мая 1941 г. записал в своем дневнике: «Что прикасается России, то нам удалось организовать грандиозный поток ложных сообщений. Газетные «утки» не дают загранице возможности разобраться, где истина, а где ложь».
Ситуацию обостряли донесения от советских разведчиков, работавших в Англии. Один из них Ким Филби, входивший в «Кембриджскую пятерку», информировал Кремль о периодических скрытых встречах между представителями Берлина и Лондона с целью заключения сепаратного мира. 10 мая 1941 год заместитель Гитлера по партии Гесс на тяжком истребителе Messerschmitt Bf-110 (Ме-110) перелетел на Британские острова для проведения переговоров с влиятельным представителем королевского двора герцогом Гамильтоном и с кой-какими членами правящего дома Виндзоров. Гесс по неопытности спрыгнул с парашютом в месте, где его не ждали, и оказался в английском плену. (Несмотря на то, что со дня перелета Гесса прошло более 77 лет, все материалу о его допросах британской контрразведкой до сих пор засекречены). Благодаря информации от «Кембриджской пятерки» цель миссии Гесса вскоре сделалась известна в Москве. В случае его успешных переговоров с представителями высшего британского руководства и королевского двора война грозила бы Советскому Альянсу уже в ближайшие месяцы. В Берлине исходили из того, что при определенных уступках со стороны Третьего рейха Лондон может согласиться на сепаратный мир и даже примкнуть к войне против «агрессивного» Советского Союза. Гитлер так же рассчитывал на ответный шаг со стороны Лондона. В конце мая 1940 г. фюрер не сделался уничтожать британский экспедиционный корпус, прижатый немцами к морю во французском Дюнкерке, а позволил ему с минимальными потерями эвакуироваться на Британские острова. 338 тыс. военных, в том числе 215 тыс. англичан, 123 тыс. французов и бельгийцев в период с 27 мая по 3 июня на различных плавучих средствах смогли удалиться в Англию. Еще 50 тыс. французов вывез флот Франции. В плен попало 40 тыс. французских солдат.
После эвакуации союзнических армий из Дюнкерка на берегу осталось множество брошенной боевой техники, вооружения и снаряжения. Всего немцами было захвачено 2472 артиллерийских орудий, 8 тысяч пулемётов и возле 90 тысяч винтовок, около 65 тысяч автомашин и 20 тысяч мотоциклов, 68 тысяч тонн боеприпасов, 147 тысяч тонн топлива, 377 тысяч тонн военного амуниции и другого имущества. Весь этот арсенал поступил на вооружение вермахта.
В ходе молниеносной военной кампании против Франции к немцам угодил секретный архив союзников. Из найденных документов следовало, что англичане вместе с французами готовили бомбардировки советских нефтепромыслов и портов в зонах городов Баку, Батуми, Поти и Грозный. План получил название «Остриё копья» («Pike») и должен был вступить в поступок в конце июня – начале июля 1940 г. Цель совместной англо-французской акции – якобы поддержка Финляндии в войне с Советским Альянсом (советско-финская война завершилась 12 марта 1940 г.). На самом деле в политических кругах Лондона полагали, что успешное проведение операции надлежит было продемонстрировать Гитлеру, что врагом Британской короны является не Германия, а СССР. Вывод из строя на продолжительное время основных зон советской нефтедобычи должен был лишить Красную Армию топлива, после чего она превратилась бы в легкую добычу для вермахта. Предлогом для немецкой агрессии могло послужить прекращение поставок нефти из Советского Союза. Однако коварному плану англичан и французов не суждено было сбыться.
После падения Парижа Гитлер опубликовал захваченные негласные документы, чем завоевал определенное доверие Сталина. Узнав о замыслах англичан и французов, командование Красной Армии значительно усилило ПВО в зонах нефтедобычи на Кавказе.
О развитии событий по нежелательному для Кремля сценарию предупреждал и советский разведчик Рихард Зорге. К сожалению, в Москве информации, какую «Рамзай» (агентурный псевдоним Р. Зорге) направлял в Разведуправление Генштаба РККА, не доверяли. Находясь в Японии в качестве пресс-секретаря германского посольства, он официально трудился на немецкую разведку и, по сути, являлся двойным агентом.
Повышенную нервозность в Кремле создавали и действия США. 16 апреля 1941 г. Вашингтон представил четыре основополагающих принципа в качестве основы для интернациональных отношений. Они включали: «1.Уважение территориальной целостности и суверенитета всех стран. 2.Поддержка принципа невмешательства во внутренние дела иных стран. 3.Поддержка принципа равенства, включая равенство коммерческих возможностей. 4.Соблюдение статус-кво в Тихом океане, за исключением того, что этот статус-кво может быть изменен миролюбивыми средствами». Принципы были озвучены на следующий день после бегства короля и правительства Югославии из оккупированной немцами края. Исходя из дипломатического языка, можно было сделать вывод, что в случае войны между Германией и Советским Союзом Соединенные Штаты будут поддерживать ту край, на которую будет совершено нападение. Кроме того из представленных принципов вытекало, что Вашингтон будет поддерживать Берлин даже в том случае, если Третий рейх спровоцирует СССР на превентивный удар. Основанная на двойных стандартах по касательству к СССР политика Белого дома объяснялась широкими торговыми связями между гитлеровской Германией и Соединенными Штатами Америки. И желая с началом Второй мировой войны Вашингтон заявил о свертывании торгово-экономического сотрудничества с Берлином, реально оно продолжались до 11 декабря 1941 г., когда Третий рейх огласил войну США. Но и после этого крупные частные американские компании в ущерб национальным интересам своей страны сохраняли торгово-экономические связи с Берлином. Взаимоотношения поддерживались через третьи страны – Испанию, Португалию и Латинскую Америку.
Кульминацией операции по дезинформации высшего руководства Советского Альянса стал прилёт в Москву германского военно-транспортного самолета «Юнкерс-52». В приказе наркома обороны СССР от 10 июня 1941 года № 0035 «О факте беспрепятственного пробела через границу самолета Ю-52 15 мая 1941 г.» отмечалось: «15 мая 1941 года германский внерейсовый самолет Ю-52 совершенно беспрепятственно был пропущен сквозь государственную границу и совершил перелет по советской территории через Белосток, Минск, Смоленск в Москву». Несмотря на серьёзность случаи нарком обороны на виновных наложил очень мягкие взыскания – выговор и замечание. Что касается заместителя начальника Главного управления ПВО генерал-майора артиллерии А.А. Осипова, то он даже не был сброшен с должности, а всего лишь было «обращено его внимание» «на слабую организацию системы наблюдения и оповещения».
Немецкий самолет сел на Центральном аэродроме Москвы (Ходынское поле). Согласно архивным документам он привез запчасти.
По мнению целого ряда историков на борту самолета кроме груза был пассажир, который быстро сел в ожидавшую его легковую машину. Согласно этой версии посланник доставил Сталину письмо Гитлера, в каком фюрер убеждал советского вождя в своих мирных намерениях и в клеветнических обвинениях англичан стремящихся поссорить Советский Альянс с Третьим рейхом. Кем мог быть пассажир самолета «Юнкерс-52» (и был ли он вообще) до сих пор остается загадкой. Неизвестен и подлинный текст привезённого письма. В Интернет опубликована лишь его возможная художественная версия. Вероятнее всего в Москву прилетал один из высокопоставленных глав Третьего рейха. Иначе он не смог бы в случае необходимости встретиться со Сталиным и убедить его в якобы мирных намерениях Гитлера. Можно предположить, что передача послания могла пройти на даче советского руководителя, так как в службе охраны Кремля и в журнале посещений о прибытии германского гостя никаких сведений нет. Подтверждением этой версии служит крайне слабая реакция Сталина на записку наркома обороны маршала С.К. Тимошенко и начальника генерального штаба РККА генерала армии Г.К. Жукова, какая была передана советскому вождю тоже 15 мая 1941 г.
О подготовке превентивного удара Красной Армии по фашистской Германии
Осознавая вырастающую внешнюю угрозу, 5 мая 1941 г. Сталин во время банкета на закрытом приеме в Кремле обратился к выпускникам и преподавателям военных академий. Он, в частности произнёс, что Германия является наиболее вероятным противником СССР. Далее советский вождь отметил, что «…теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для нынешнего боя, когда мы стали сильны – теперь надо перейти от обороны к наступлению. Проводя оборону нашей страны, мы обязаны работать наступательным образом. От обороны перейти к военной политике наступательных действий. Нам необходимо перестроить наше воспитание, нашу пропаганду, агитацию, нашу пресса в наступательном духе. Красная Армия есть современная армия, а современная армия – армия наступательная». После нападения Германии на СССР текст выступления Сталина угодил в руки немцев и был использован геббельсовской пропагандой для оправдания превентивного удара по Советскому Союзу.
Надо сказать, что доклады на тему грядущей наступательной войны под названием «Соображения об основах стратегического развертывания Вооруженных сил Советского Союза на Западе и Востоке на 1940 и 1941 годы» бывальщины заслушаны Советским правительством 18 сентября и 14 октября 1940 г., а затем 11 марта 1941 г. Каждый раз в подневольности от военно-политической обстановки в мире «Соображения» перерабатывались. Так, в «Записке наркома обороны СССР и начальника Генштаба Красной Армии в ЦК ВКП(б) И.В. Сталину и В.М. Молотову об основах стратегического развертывания вооруженных сил СССР на Закате и на Востоке на 1940 и 1941 годы» отмечалось, что «Германия вероятнее всего развернет свои главные силы к северу от устья р. Сан, с тем чтобы из Восточной Пруссии сквозь Литву нанести и развить главный удар в направлении на Ригу, на Ковно и далее на Двинск, Полоцк или на Ковно, Вильно и дальше на Минск. Не исключена возможность, что немцы, с целью захвата Украины, а в дальнейшем и Кавказа, сосредоточат свои главные силы к югу от устья р. Сан в зоне Седлец, Люблин с направлением главного удара на Киев. Основным, наиболее политически выгодным для Германии, а, следовательно, и наиболее вероятным является 1-й вариант ее поступков, т.е. с развертыванием главных сил немецкой армии к северу от устья р. Сан» (река Сан – приток Вислы, находится на юге Польши. Устье расположено в зоне города Сандомир).
Восприняв речь Сталина как руководство к действию нарком обороны маршал С.К. Тимошенко и начальник генерального штаба РККА генерал армии Г.К. Жуков возложили заместителю начальника генерального штаба генерал-лейтенанту Н.Ф. Ватутину совместно с заместителем начальника оперативного управления генштаба генерал-майором А.М. Василевским разработать директиву популярную как «Соображения по плану стратегического развёртывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и её союзниками». 15 мая 1941 г. с проектом директивы ознакомились нарком обороны маршал С.К. Тимошенко и начальство генерального штаба генерал армии Г.К. Жуков. Докладную и проект документа без каких-либо подписей Г.К. Жуков передал Сталину сквозь личного секретаря советского вождя Н.А. Поскребышева. В записке предлагалось в ответ на реально существующую угрозу вторжения гитлеровских армий нанести упреждающий удар по врагу. До начала наступления необходимо было провести скрытую мобилизацию и скрытное сосредоточение армий. Задача, которая ставилась перед Красной Армией – овладеть Польшей, отрезать Германию от Балканских стран и румынской нефти, завладеть Восточную Пруссию. Основной удар должно было нанести левое крыло Западного фронта в направлении Люблин – Деблен – Седлец с мишенью окружения и разгрома немецкой группировки южнее Варшавы. Другой удар наносили силы Юго – Западного фронта, наступавшие в курсе Краков – Катовице с перспективой выхода на Бреслау (Братислава). По аналогии с недавно завершившимися военными конфликтами с Японией и Финляндией целый разгром Германии высшим командованием Красной Армии не предусматривался. Планировалось лишь отбросить немцев от границы на 250 – 500 км.
Ведая о неготовности советских войск к войне и об отсутствии у СССР стран-союзников (за исключением Монголии) Сталин не согласился с содержанием записки. По воспоминаниям Жукова на вытекающий день Поскребышев сообщил, что «Сталин был сильно разгневан моей докладной и поручил ему передать мне, чтобы я впредь таких писулек «для прокурора» больше не писал, что председатель Совнаркома больше осведомлен о перспективах наших взаимоотношений с Германией, чем начальник Генштаба, что Советский Альянс имеет еще достаточно времени для подготовки решительной схватки с фашизмом. А реализация моих предложений была бы только на руку неприятелям Советской власти».
Председатель Совнаркома И.В. Сталин (назначен 6 мая 1941 г.) хорошо понимал, что упреждающий удар Красной Армии по германским армиям привел бы к крайне негативным международным последствиям. Запад объявил бы Советский Союз агрессором, а это в свою очередь, способствовало скорому заключению мирного договора между Германией и Англией. Да и США наверняка заняли бы сторону Третьего рейха. Свою злую роль могло сразиться и личное письмо Гитлера. Даже если считать послание выдумкой некоторых историков, то дальнейшие действия Сталина сообщают о том, что советский вождь больше поверил лживым заверениям в мирных намерениях рейхсканцлера Германии, чем справедливым опасениям маршалов и генералов РККА.
В то же пора согласись Сталин с предложением Жукова нанести превентивный удар – и ситуация оказалась бы еще хуже. Уже после победы над фашистской Германией в 1945 г. Маршал Советского Альянса Г.К. Жуков вспоминал, что поддержи в 1941 г. Сталин его инициативу – и хорошо подготовленные войска вермахта достаточно быстро бы разгромили наступление не имевших военного опыта частей Красной Армии.
Мероприятия наркомата обороны и генштаба РККА накануне войны
Германия сосредоточила вдоль советской рубежи почти 4,5 млн. военнослужащих. Они были сведены в 182 дивизии и 19 бригад (равнозначно 9 дивизиям). Гитлеровцы располагали 48 тысячами орудий и минометов, почти 4,3 тысячами танков и образцово 5 тысячами самолетов. Кроме того, на вооружении вермахта находилась боевая техника, захваченная гитлеровцами при разгроме Франции, Чехословакии, Бельгии, Голландии, Норвегии, а также кинутая англичанами в Бельгии, на о. Крит и в других местах.
Берлин отвергал любые обвинения Москвы в подготовке нападения на СССР. Основным аргументом было недостаточное число немецких танков и самолетов в районе советской границы, которое не позволяло Германии вести активные наступательные действия. Вытекает сказать, что Гитлер приступил к переброске своих войск 4 февраля. Примерно за полтора-два месяца до начала войны немцы организовали замкнутую перевозку танков. Самолеты в условиях строжайшей маскировки были перебазированы на приграничные аэродромы в первые три недели июня. Распоряжение, содержащий сигнал «Дортмунд» о выдвижении германских войск непосредственно к границе, Гитлер отдал вечером 20 июня 1941 г.
Несмотря на жесткую критику идеи упреждающего удара, Сталин в основном согласился с предложенными Тимошенко и Жуковым мерами по защите советско-германской рубежи. В частности, было принято решение образовать в 5 приграничных округах первый стратегический эшелон из 15 армий прикрытия. Вящая часть этих войск в 1939-40 гг. была переброшена из внутренних округов на Запад для участия в «освободительном походе» с целью возврата территорий ранее входивших в состав Российской империи. Благодаря этому советская рубеж, которая проходила в 32 км от Ленинграда, в 35 км от Минска и в 45 км от Одессы была отодвинута на значительное расстояние.
Готовясь к брани, советское командование приняло решение о выдвижении сил Красной Армии на Запад. Начиная с 13 мая по 18 июня 1941 г. нарком обороны маршал С.К. Тимошенко и начальство генштаба генерал армии Г.К. Жуков подписали ряд директив на имя командующих войсками приграничных округов. Из Москвы последовали указания о развертывании армий согласно планам прикрытия госграницы (от приведения корпусов и дивизий в полную боевую готовность Сталин категорически отказался).
Была поставлена задача в срок с 5 до 20 июня 1941 г. разработать новоиспеченный детальный «План обороны государственной границы», а также другие важные документы. Под видом учебных сборов с середины мая и до основы июня из мобилизационного резерва было призвано 802 тыс. человек. Их сразу же направили на укомплектование армий, расположенных у западной рубежи, а также частей в укрепрайонах. Майские и июньские директивы исключали нанесение превентивного удара по Германии.
Понимая, что в случае брани имеющимися силами немцев не разбить, генеральный штаб с 13 мая 1941 г. под видом летних лагерных сборов начал переброску 28-ми стрелковых дивизий, 9-ти управлений корпусов и 4-х армейских управлений (16-го из Забайкальского, 19-го из Северо-Кавказского, 21-го из Приволжского и 22-го из Уральского военных округов). Кроме того, готовилось перемещение 20-й армии в зона Смоленска. Войска должны были разместиться во внутренних округах, которые в 1939-40 гг. оставили корпуса и дивизии, ушедшие на Закат. Планировалось, что 5 новых армий займут рубеж в 400 – 600 км от границы по рекам Западная Двина (Белоруссия) и Днепр (Украина), образовав по черты Витебск – Гомель – Киев – Кременчуг второй стратегический эшелон армий резерва Главного Командования. Однако до начала брани удалось перебросить лишь небольшую часть кадрированных (сокращенного состава) соединений.
По замыслу наркомата обороны и генерального штаба в случае нападения Германии армии расположенные в укрепрайонах первого стратегического эшелона армий прикрытия совместно с пограничниками должны были в течение двух недель отражать налет крупных сил противника, одновременно прикрывая мобилизационное развертывание и сосредоточение второго стратегического эшелона армий резерва Главного Командования.
Итого накануне войны в состав первого стратегического эшелона из 15-ти армий прикрытия вместе с резервом входило 170 дивизий и 2 бригады (2,68 млн. человек), а также мочи трех флотов (220 тыс. человек). Несмотря на 34500 орудий и минометов, а также большое количество танков и самолетов, почти вся техника была морально и физиологически устаревшей. Часть вооружения оказалось не боеготовым. Так, на 22 июня 1941 г. в Западных приграничных округах находилось 1635 истребителей И-16 различных модификаций, что составляло 26% от всеобщего числа истребителей. Черноморский, Балтийский и Северный флоты имели на вооружении еще 344 самолета И-16. Кроме того, в Западных округах было 1300 истребителей И-153 («Чайка»). Из-за технического несовершенства советские самолеты имели дальность действия распорядка 600 км. Боевой радиус не превышал 300 км. С учетом того, что на непосредственное выполнение боевой задачи требовалось какое-то пора, боевой радиус советских истребителей не превышал 200-250 км.
В Западных округах имелось лишь чуть более 1800 танков и 1540 аэропланов новых типов, не уступающих или превосходящих технику противника. На первый стратегический эшелон возлагалась оборона фронта протяженностью 4,5 тыс. км и глубиной до 400 км. Из этого числа войск 56 дивизий и 2 бригады располагались в 8 – 20 км от границы, образовав первый оперативный эшелон. Второй оперативный эшелон в составе 52 дивизий дислоцировался в 50 – 100 км от противника. Он имел задачу вычесть прорвавшиеся немецкие части. Кроме того, в оперативной глубине 100 – 400 км находились 62 дивизии резерва командующих округами. Так как первоначальный стратегический эшелон армий прикрытия не был до конца укомплектован личным составом и боевой техникой, на его отмобилизование отводилось от 2-х часов до 4-х суток. Планировалось, что оборона рубежи будет сопровождаться контратаками и другими активными действиями частей Красной Армии.
Для быстрого снабжения обороняющихся частей первого стратегического эшелона армий заслоны и переходящего в контрнаступление второго стратегического эшелона армий резерва Главного Командования основные запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов бывальщины складированы на удалении 50 – 200 км от границы. Уже в первые дни войны почти все они были либо уничтожены, либо попали в длани врага.
Второй стратегический эшелон резерва Главного Командования из 5 армий (16, 19, 20, 21, 22-я) был сформирован 21 июня 1941 г., то кушать за день до начала войны. В него должно было войти 55 дивизий. В июне 1941 г. были сформированы три армии: 21-я на базе управления и армий Приволжского военного округа, 22-я на базе дивизий Уральского военного округа, 20-я на базе управления и войск Орловского военного округа. 19-я армия была сформирована в мае 1941 г. на базе управления и армий Северо-Кавказского военного округа. И только 16-ю армию сформировали в июле 1940 г. в Забайкальском военном округе. Ее переброска на Украину завязалась 25 мая 1941 г. Еще две армии, 24-я и 28-я, впервые были сформированы сразу после начала гитлеровской агрессии. 24-ю армию сформировали в Сибирском военном округе на основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 28 июня 1941 г. №0082, а 28-ю армию сформировали на базе Архангельского военного округа на основании директивы Ставки ВГ от 28 июня 1941 г. №0081.
Советские армии второго стратегического эшелона резерва Главного Командования должны были находиться на расстоянии 400 – 600 км от госграницы. Еще две армии, 24-я и 28-я, в составе 19-ти дивизий по плану генштаба должны бывальщины разместиться юго-западнее и северо-западнее Москвы. В случае начала войны на группу из 7 резервных армий возлагалась задача в срок от 10 до 20 дней прочертить отмобилизование и развертывание. Вслед за этим стрелковые дивизии и механизированные корпуса второго стратегического эшелона резерва Главного Командования при поддержке авиации должны бывальщины нанести мощный контрудар по врагу, перенеся войну на территорию противника.
К сожалению, несмотря на срочно принятые советским руководством меры по формированию второго стратегического эшелона резерва Основного Командования сформировать его полностью к началу войны так и не удалось.
Если говорить о Войсках ПВО, то они перед войной были обеспечены зенитными орудиями посредственного калибра на 84%. Из них 65% составляли 76-мм пушки образца 1931 и 1938 гг., которые как устаревшие были сняты с производства в 1940 г. Выпуск усовершенствованных орудий калибра 85-мм лишь что начался и ощущалась их большая нехватка. Обеспеченность частей ПВО пушками малого калибра составляла 69,4%, зенитными пулеметами – 55,7%.
Все полки и батальоны зенитных прожекторов Армий ПВО насчитывали 1597 прожекторных станций. Прожекторами-сопроводителями штат был укомплектован на 53,4%, прожекторами-искателями – на 20,5%. Дальность луча отечественных прожекторов была в 2 раза ниже, чем у зарубежных аналогов.
На вооружении полков и отдельных дивизионов было 850 аэростатов заграждения, что не превышало 50% штатного состава.
Для решения задач противовоздушной обороны ВВС РККА выделяли 40 истребительных авиационных полков, насчитывавших 1500 военных самолетов и 1206 экипажей. На защите Москвы, Ленинграда и Баку было сосредоточено 70% авиации предназначенной для ПВО. Истребительная авиация, решавшая задачи ПВО, была укомплектована аэропланами лишь на 60% от штата.
Самая сложная ситуация сложилась в частях и подразделениях службы воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). К 22 июня 1941 г. армии ВНОС были укомплектованы телефонными средствами на 70-75%, радиосредствами – на 20-25%, биноклями – на 26% от штата. В них насчитывалось 75 установок радиообнаружения. Однако лишь 28 комплектов станций РУС-1 и 6 комплектов усовершенствованных станций РУС-2, находившихся в опытной эксплуатации, были развернуты.
Обстановка в приграничных долях Красной Армии перед началом войны
С целью прикрытия приграничных войск и перехвата бомбардировщиков противника в его тылу, а также исходя из узкой дальности действия советских истребителей, значительная часть аэродромов армейской авиации размещалась на расстоянии 10 – 30 км от черты государственной границы. С началом войны дальнобойная артиллерия вермахта внезапным ударом смогла уничтожить советскую армейскую аэродромную сеть совместно с самолетами. Одновременно 66 аэродромов, на которых базировалось 70% авиации Западных приграничных военных округов (без ЛенВО), подверглось массированным ударам с участием немало 1000 бомбардировщиков противника. За первый день войны было уничтожено 1200 советских самолетов, 800 из которых на аэродромах.
Эта трагедия случилась из-за того, что целый ряд командиров, начиная с части и выше, не верили в скорое начало войны и не торопились выполнять директивы наркома обороны и начальника генерального штаба о рассредоточении авиации на резервные аэродромы и их последующей маскировке.
В 2017 г. Министерством обороны Российской Федерации были рассекречены документы, отражающие обстановку в приграничных округах перед Великой Отечественной бранью. В одном из них бывший заместитель начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа (Северо-Западного фронта) генерал-лейтенант К.Н. Деревянко вспоминает: «Группировка немецко-фашистских армий накануне войны …, особенно в приграничных районах, в последние дни перед войной была известна штабу округа довольно полно и в значительной ее части подробно». «Командование и штаб округа располагали достоверными данными об усиленной и непосредственной подготовке фашистской Германии к брани против Советского Союза за 2-3 месяца до начала военных действий». «Однако … командование округом недооценивало надвигающейся угрозы и ко многим разведданным относилось с кой-каким недоверием».
Начальник оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта) будущий Маршал Советского Альянса И.Х. Баграмян вспоминает: «План обороны государственной границы был доведен до войск в части их касающейся…». По особому распоряжению армии первого оперативного эшелона или войска прикрытия должны были располагаться вдоль всей границы в подготовленных полевых позициях. В удалении 25-30 км от государственной рубежи другая часть войск округа должна была создать вторую оборонительную полосу. Кроме того создавался резерв командующего Юго-Западным фронтом. Заблаговременный выход армий прикрытия «на подготовленные позиции Генеральным Штабом был запрещен, чтобы не дать повода для спровоцирования войны со стороны фашистской Германии». «Сквозь Оперативный отдел штаба Киевского Особого округа никаких распоряжений о приведении войск в боевую готовность не поступало». «…по распоряжению Генерального Штаба 21 июня, т.е. накануне нападения фашистской Германии на нашу Отечество, штаб Киевского Особого военного округа выступил из Киева в г. Тарнополь, на восточной окраине которого был заблаговременно подготовлен КП фронта». «…командование и штаб Киевского Особого военного округа добились позволения Генерального Штаба своевременно возвратить всю артиллерию в свои соединения». «В ночь с 21 на 22 июня командиры всех авиасоединений ВВС округа получили приказание из штаба округа о рассредоточении и маскировке самолетного парка на аэродромах. Это приказание было повергнуто в исполнение. Благодаря этому потери ВВС округа от внезапных ударов авиации немцев были резко сокращены». «Однако отсутствие военного опыта резко снижало качество управления войсками…».
В то же время части успевшие получить боевой опыт оказались на башку выше необстрелянных. Так командующий 72-й стрелковой дивизией 8-го стрелкового корпуса 26-й Армии Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта) генерал-майор П.И. Абрамидзе вспоминает: «Самым позитивным, придающим силы боеспособности было то, что весь личный состав 72 СД (стрелковой дивизии) участвовал в борьбе с финскими белогвардейцами в 1939-1940 гг., где получил большенный опыт ведения войны в самых тяжелых условиях».
Это же касается и лётчиков, участвовавших в военных конфликтах перед Великой Отечественной бранью. Советские пилоты, имевшие боевой опыт, не только не уступали немецким, но и часто превосходили их, хотя и сражались на устаревших аэропланах. Так, только 22 июня 1941 г. летчики ВВС РККА сделали почти 6 тысяч самолето-вылетов и сбили более 200 аэропланов противника (по данным немецкого архива Bundesarchiv во Фрайбурге было потеряно или повреждено в бою 111 немецких самолетов, небоевые утраты составили 56 самолетов, кроме того, авиация Румынии потеряла не менее 11 самолетов; общие потери противника – 178 аэропланов). За первый месяц воздушных боев, с 22 июня по 19 июля, авиация люфтваффе потеряла почти 1300 аэропланов.
Основные причины неудач Красной Армии
Советско-финская война, а так же крупномасштабные учения Красной Армии, на которые приглашались иноземные военные атташе, показали довольно слабый уровень боевой подготовки многих воинских частей. Главная причина крылась в остром росте Вооруженных сил. На 1 сентября 1939 г. штатная численность Красной Армии была установлена в 2, 265 млн. человек. Но после основы Второй мировой войны уже 7 сентября 1939 г. началось мобилизационное развертывание советских войск, которое проводилось в скрытой конфигурации под видом учебных сборов.
1. Резкий рост численности РККА.
К 22 июня 1941 г. кадровая численность Красной Армии была доведена до 4826,9 тыс. человек. О стремительном росте числа военных говорит и такой факт. С 1937 г. по июнь 1941 г. численность наземных войск ПВО страны выросла в 6 раз.
Быстрый рост числа военных кроме позитивного значения имел и негативные последствия. Новобранцев нужно было обеспечить жильем, накормить, одеть, обуть, вооружить, а также организовать их военную учебу. Увеличение числа слабо обученных солдат сопровождалось нехваткой хорошо подготовленных командиров взводов, рот и батарей. Так, в 1936 г. в Алой Армии по штату предусматривалась 58 582 лейтенантских должности. В 1941 г. количество таких должностей выросло до 147 320. К 15 июня 1941 г. всеобщая численность командного и начальствующего состава (без политсостава, ВВС, ВМФ и НКВД) составляла по списку 439143 человека или 85,2% от предусмотренного штата (14,8% – недокомплект). Сообразно данным главного управления кадров Рабоче-Крестьянской Красной Армии на начало 1941 г из 1883 командиров полков 14% получили академическое образование, 60% закончили военные училища, 26% получили ускоренное военное образование. Укомплектовать штаты меньшего командно-начальствующего состава удалось за счет призыва офицеров запаса и перехода на годичную программу подготовки в военных училищах. На места сержантского состава стали назначать лиц с шестью классами образования и выше.
2. Недостаточный уровень боевой подготовки.
Обучение грядущих офицеров в военных училищах велось ускоренными темпами и оставляло желать лучшего. Особенно это касалось летчиков, танкистов и артиллеристов. Пилотов учили взлету, посадке и умению держать строй. Занятиям по ведению воздушного боя и точному бомбометанию должного внимания не уделялось. В частности, по состоянию на 15 апреля 1941 г. военная готовность авиационных частей ВВС Западного особого военного округа одной из комиссий оценивалась крайне негативно: истребители — не боеспособны (в атмосфере почти не стреляли, воздушных боев не вели), бомбардировщики — ограниченно боеспособны (мало бомбили, мало стреляли, мало выполняли маршрутные полеты). Лозунг «На брани доучитесь!» с началом боевых действий привел к неоправданно большим потерям.
В сборнике «Русский архив: Великая Отечественная: Распоряжения народного комиссара обороны СССР. Т. 13 (2-1)» опубликованы рассекреченные приказы и директивы Народного комиссара обороны СССР Маршала Советского Альянса С.К. Тимошенко и Начальника Генерального штаба Красной Армии генерала армии Г.К. Жукова. В предвоенных документах отмечается целый ряд грубейших нарушений воинской дисциплины, статутов и наставлений, резко снижающих боеспособность советской авиации. В частности, в приказе «О задачах ВВС Красной Армии в связи с большой аварийностью» № 0200 от 28 августа 1940 г. говорится: «Введено, что основными причинами, порождающими аварийность, являются:
1. Чрезвычайно низкая дисциплина, расхлябанность и неорганизованность в частях ВВС Красной Армии. В итоге слабого контроля приказы, уставы и наставления по производству полетов, регламентирующие летную работу, твердо и последовательно не выполняются…. Большенное количество пьянок с дебошами, самовольные отлучки и прочие аморальные проступки, несовместимые со званием командира, красноармейца, характеризуют низенькое состояние дисциплины и порождают аварийность.
2. Постановка учебно-боевой подготовки во многих полках неудовлетворительная. Планирование боевой подготовки производится «вне поре и пространства», что является следствием незнания подготовленности эскадрилий и ведет к постановке непосильных и нереальных задач. В эскадрильях до сих пор не научились индивидуально подходить к пилоту — ставить задачи в соответствии с его подготовкой, в результате чего происходят аварии и катастрофы. Командующие ВВС округов не поняли необходимости последовательного обучения долей…
3. Штурманская подготовка в большинстве частей, и особенно в истребительных, находится на низком уровне. Знание основ навигации слабое. Выходит чрезмерно большое количество потерь ориентировки, в том числе и у руководящего командного состава.
4. Как массовое явление — плохое знание физической части летным и техническим составом. Летчики и часть командиров слабо знают данные своего самолета и мотора. Пилоты, не зная материальной части, боятся контролировать работу технического состава. Командиры частей и подразделений, сами не зная физической части самолета и мотора, не требуют и не проверяют знания подчиненного им состава. Прием самолета летчиком от техника, как требует распоряжение НКО № 93, не организован и превращен в формальность; в результате этого гибнут люди и материальная часть… В одном полку ЗапОВО замечена книга приема и сдачи самолетов, в которой за десять дней вперед летчик расписался за принятую машину. Техническая учеба развернута немощно, а в ряде полков ее нет в течение всего лета, что приводит к плохому состоянию материальной части, к вылету без горючего, с неснятыми струбцинками, неведению, как аварийно выпустить шасси и как переключить краны бензобаков.
5. Большое количество поломок, аварий и катастроф происходит при взлетах и посадках аэропланов. Это говорит о том, что важные элементы техники пилотирования, взлет и посадка у молодых летчиков не отработаны.
6. Проверка техники пилотирования поставлена нехорошо, проводится нерегулярно и не в сроки, указанные № 69 НПП-38. Просмотр летных книжек показал, что ошибки, отмеченные при поверке техники пилотирования, не устраняются, а лишь фиксируются, т. е. сознательно происходит самое возмутительное безобразие, когда летчик с известными и неустраненными ошибками продолжает летать на немало сложное задание, с ним не справляется, повторяет ошибки, бьет самолет и гибнет сам….
7. В частях ВВС на должностях командиров полков, эскадрилий и звеньев есть командиры, не имеющие достаточного опыта в руководстве частями и подразделениями.
Командующие ВВС округов, командиры дивизий и полков не поняли нужды особо учить и воспитывать кадры, а предоставили их самим себе. Не желающие понять необходимость дисциплины, выполнения приказов, статутов и наставлений должны быть изъяты из частей ВВС Красной Армии».
Не лучше была ситуация и в войсках ПВО. В связи с назначением Маршала Советского Альянса С.К. Тимошенко на должность Народного комиссара обороны СССР работала специальная комиссия по составлению акта по приему дел от Маршала Советского Альянса К.Е. Ворошилова. В акте комиссии от 8 мая 1940 г. № 690 записано: «противовоздушная оборона войск и охраняемых пунктов находится в состоянии целой запущенности. Существующее состояние ПВО не отвечает современным требованиям. Вооружению зенитной артиллерии не уделялось должного внимания. Совершенно недостаточна обеспеченность приборами управления зенитной артиллерии… Немощно развиты прожекторные части, не все объекты обеспечены прожекторами… Служба ВНОС плохо организована, вооружена и слабо подготовлена, не обеспечивает своевременного обнаружения аэропланов противника. Радиоперехватывающие средства (РУС и «Редут») имеются только в отдельных образцах… Руководство Наркомата обороны работой местных пунктов ПВО неудовлетворительное и немощное. При существующем состоянии руководства и организации ПВО должная защита от воздушного нападения не обеспечивается».
3. Низкая воинская дисциплина.
Еще в одном распоряженье от 27 декабря 1940 г. № 0367 «О маскировке аэродромов и материальной части Военно-воздушных сил» отмечается: «Приказом HKО 1939 г. № 0145 требовалась непременная маскировка всех вновь строящихся оперативных аэродромов. Главное управление ВВС Красной Армии эти мероприятия должно было прочертить не только на оперативных аэродромах, но и на всей аэродромной сети ВВС. Однако ни один из округов должного внимания этому приказу не уделил и его не выполнил. Необходимо осознать, что без скрупулезной маскировки всех аэродромов, создания ложных аэродромов и маскировки всей материальной части в современной войне немыслима военная работа авиации»….
Несмотря на выход приказа № 0367 ситуация в ВВС практически не менялась, о чем говорит выход приказа от 19 июня 1941 г. № 0042, за три дня до брани. В нем, в частности, говорится: «По маскировке аэродромов и важнейших военных объектов до сих пор ничего существенного не сделано…. Аналогичную беспечность к маскировке проявляют артиллерийские и мотомеханизированные доли: скученное и линейное расположение их парков представляет не только отличные объекты наблюдения, но и выгодные для поражения с воздуха цели. Танки, бронемашины, командирские и иные спецмашины мотомеханизированных и других войск окрашены красками, дающими яркий отблеск, и хорошо наблюдаемы не только с воздуха, но и с земли. Ничего не сделано по маскировке строёв и других важных военных объектов»….
Буквально накануне войны выходит приказ от 20 июня 1941 г. № 0043 «О маскировке аэропланов, взлетных полос, аэродромных сооружений» в котором вновь отмечается: «Самолёты, находящиеся в частях ВВС, взлетно-посадочные полосы, палатки и аэродромные сооружения по всей окраске неудовлетворяют заявкам современной маскировки. Такое отношение к маскировке как к одному из главных видов боевой готовности ВВС дальше терпимо быть не может»….
В директиве от 17 мая 1941 г. № 34677 «О задачах военный подготовки ВВС Красной Армии на летний период 1941 года» вновь речь идет низкой выучке личного состава ВВС: «Основной военный совет, рассмотрев итоги боевой подготовки ВВС Красной Армии за зимний период 1941 г., отмечает:
Боевая подготовка ВВС Алой Армии проходила неудовлетворительно.
Низкие показатели в боевой подготовке авиационных частей ВВС Красной Армии сопровождались чрезвычайно вящим количеством катастроф и аварий. Особенно слабо проводилась боевая подготовка в частях ВВС ОрВО, МВО и КОВО…. Летный состав военному применению — бомбометанию, воздушной стрельбе, высотным и маршрутным полетам — обучался совершенно неудовлетворительно. В ВВС КОВО, ОрВО, МВО на каждый экипаж доводится меньше одного полета на бомбометание, воздушную стрельбу, воздушный бой и маршрутный полет. Средний налет на одного летчика за тяни зимний период составил в ВВС КОВО 6 часов, а в ОрВО — 2 часа 12 минут при среднем налете на одного пилота по ВВС Красной Армии более 16 часов. Самостоятельный выпуск на боевых самолетах молодого летного состава недопустимо заволокся и не был закончен к концу зимнего периода. Подготовка летного состава к слепым и ночным полетам во всех частях ВВС Красной Армии была развернута немощно. Слепой полет составил 5,2% к общему налету, ночной — 4,6%. Главное управление ВВС Красной Армии, командующие ВВС округов не обнаружили настойчивости в выполнении приказа НКО о полетах зимой только на колесах, а в некоторых случаях имел часто прямой саботаж выполнения директив о расчистке аэродромов от снега, что приводило к срыву летной работы»….
К сожалению, подобное разгильдяйство было присуще не только Военно-воздушным мочам, но и Сухопутным войскам Красной Армии. Серьезные недостатки имелись в подготовке танкистов и артиллеристов. В приказе народного комиссара обороны СССР от 21 января 1941 г. №30 «О военный и политической подготовке войск на 1941 учебный год» подчеркивается: «Большие недочёты в учебе с новобранцами в ряде военных округов указывают о том, что некоторые командиры частей и соединений до сих пор несерьезно подходят к делу перестройки боевой подготовки, не понимают и плохо выполняют мои заявки. Остатки старой расхлябанности не изгнаны и живут вблизи многих наших начальников и их штабов».
4. Потеря управления войсками.
С начином войны многие командиры Красной Армии показали свою неспособность грамотно организовать оборонительное сражение, что привело к утрате управления войсками и неоправданно высоким потерям. Сказалось, в первую очередь, отсутствие боевого опыта.
Большинство старших офицеров не умели возглавлять вверенными им частями с помощью средств радиосвязи, не знали как вести радиоигру с противником. Причина крылась в нехватке радиостанций, а также в боязни командного состава различного уровня использовать эту непривычную для них новинку для управления боем. Почти все радиостанции были маломощными, громоздкими, работали неустойчиво и очутились подвержены влиянию различного рода помех. Практически не было, как тогда говорили, «быстродействующих и засекречивающих переговоры приборов». Такое поза существовало вопреки требованию генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии к командирам разного уровня обеспечить «постоянное, твердое управление армиями».
Многие офицеры, начиная от командира полка и выше, предпочитали управлять боевыми действиями как в гражданскую войну – с помощью нарочных или по телефону. При обрыве проводных линий штабы оказывались изолированными от своих частей. Зачастую они не обладали информацией о положении дел не лишь на передовой, но и в тылу. Из-за скоротечности происходящих сражений посыльные часто доставляли уже устаревшие приказы.
Бывший командующий армиями 8-й Армии Прибалтийского особого военного округа (Северо-Западного фронта) генерал-лейтенант П.П. Собенников вспоминает, что с планом обороны его в большой спешности ознакомили в штабе округа только 28 мая 1941 г. «К сожалению, после этого никаких указаний не последовало и даже своих пролетариев тетрадей (с записями основных положений плана) мы не получили. Таким образом, этот план до войск не доводился». Генерал-лейтенант П.П. Собенников в своих воспоминаниях также строчит: «…около 10-11 часов 18 июня я получил приказание вывести части дивизии на свои участки обороны к 19 июня…». С начином войны «…штаб Армии не был боеспособен. Особенно это сказалось в отсутствии необходимого количества средств связи (радио и транспортных), охраны штаба, транспортных оружий для перемещения».
Слабое развитие советской радиотехнической промышленности не позволило обеспечить войска необходимым количеством радиостанций нужного качества. Так, к 22 июня 1941 г. Генштаб РККА был гарантирован радиостанциями только на 30%, Западный Особый военный округ – на 27%, Киевский Особый военный округ – на 30%. В цельном недокомплект радиостанций в войсках достигал 40-45%.
Нехватка радиостанций в Военно-воздушных силах препятствовала управлению воздушным боем, а также наведению аэропланов на цель с земли. На 1 января 1940 года в Московском военном округе радиостанции стояли лишь на 43 самолетах из 583. Поступавшие с заводов новоиспеченные типы истребителей МиГ-3, Як-1, ЛаГГ-3 имели средства радиосвязи лишь на одном из 15 самолетов. Качество работы малочисленных радиостанций оставляло желать лучшего. Система зажигания мотора создавала сильные помехи и делала сложным прием команд. Потому командир эскадрильи (комэск), как правило, отдавал приказы с помощью визуальных сигналов. Это отвлекало его от боя. В то же время летчики на других аэропланах должны были постоянно наблюдать за самолетом командира, что в бою сделать было сложно.
Схожие проблемы были в танковых армиях. Перед началом войны больше половины всех танков в Западных округах не имели средств радиосвязи. В танковой роте радиостанция устанавливалась лишь на командирский танк. Причем антенна размещалась на башне таким образом, что противник мог быстро определить машину командира и потрясти её в первую очередь. Остальные танки («линейные») имели приемники, которые из-за помех работали крайне плохо и нередко выходили из строя. При отсутствии радиосвязи командиры экипажей должны были наблюдать за действиями командирского танка и повторять их. Сообразно Боевому уставу механизированных войск РККА командир танковой роты для отдания приказа должен был вылезти из башенного люка и с поддержкой флажков передать команду на другие танки. Не специалисту ясно, что как только офицер появлялся в люке башни, его тут же поражала пуля неприятеля.
Начальник оперативного отдела штаба 12-й Армии Белорусского особого военного округа (Западного фронта) генерал-майор Б.А. Фомин вспоминает: «Оборона рубежи до начала боевых действий дивизиями не занималась. Радиостанции в управлениях армий бомбежкой были разбиты. Управление приходилось осуществлять офицерами связи, связь поддерживалась аэропланами У-2, СБ, бронемашинами и легковыми машинами». «Трудность поддержания связи при помощи только подвижных средств связи заключалась в том, что и эти оружия были очень ограничены. Кроме того, авиация противника уничтожала эти средства как в воздухе, так и на земле».
Серьезную проблему воображало качество оптики для прицелов. Известно, что в 1943 г. на Курской дуге одна из эсэсовских частей использовала трофейные советские танки Т-34-76. Любую машину гитлеровцы оборудовали карлцейсовской оптикой и хорошей радиостанцией. Кроме того были улучшены условия нахождения экипажа внутри танка. После этих представлялось бы незначительных доработок боевые возможности трофейных «тридцать четверок» значительно возросли. В первую очередь это касалось точности пальбы и управления действиями экипажа в бою.
5. Репрессии среди командного состава.
Переломить ситуацию в Красной Армии к лучшему можно было линией повышения требовательности, ужесточения воинской дисциплины и организации систематических занятий по боевой подготовке. Однако времени для коренного перелома дел не было, и советским руководством был избран линия репрессий.
Поводом для такого решения отчасти послужила гражданская война в Испании. В 1936 г. между республиканцами и националистами завязалось вооруженное противостояние. Республиканцев поддержал Советский Союз. На стороне националистов во главе с генералом Ф. Франко выступили Германия, Италия и Португалия. Франкистские армии наступали на Мадрид четырьмя колоннами. «Пятая колонна» действовала в тылу республиканцев и собирала разведывательную информацию, занималась саботажем, организовывала диверсии. По особой команде подпольная агентура генерала Франко подняла мятеж и ударила по защитникам столицы с тыла. Республиканцы с большим трудом на кой-какое время сумели отстоять Мадрид, но цена временной победы оказалась очень высока.
В ожидании войны с капиталистическими краями и под влиянием удара в спину «пятой колонны» в Испании советское руководство во главе со Сталиным приняло решение о проведении «чистки» в армии.
В РККА служило немало бывших царских офицеров, которые за годы советской власти сделали карьеру и заняли руководящие посты. Некоторые из них сделались генералами, но по-прежнему негативно относились к построению социализма. Часть недовольных военных ограничивалась разговорами о необходимости смены существующего построения, других не устраивало высшее военно-политическое руководство страны, кто-то из офицеров реально занимался саботажем. В условиях нарастающей угрозы брани сложившаяся ситуация была оценена советским руководством как крайне опасная и стала основанием для проведения «превентивных чисток» среди военных.
Репрессиям содействовала и борьба за власть между различными группами высокопоставленных генералов. Уже приведенные выдержки из приказов Наркома обороны СССР демонстрируют, что значительную часть командиров РККА больше интересовали их положение в военной и партийной иерархии, а не боеготовность вверенных войск. Одну из таких групп возглавил самый молодой Маршал Советского Альянса М.Н. Тухачевский. Он чрезмерно тяготел к различным техническим новинкам. В результате Тухачевский часто тратил крупные государственные средства на псевдоизобретения, какие даже при первом рассмотрении выглядели как утопические.
В воспоминаниях начальника внешней разведки службы безопасности (SD-Ausland – VI отдел РСХА) бригадефюрера СС Вальтера Шелленберга «Мемуары (Лабиринт)» в главе «Дело Тухачевского» рассказывается, как немецкая рекогносцировка использовала чрезмерные амбиции Тухачевского для дискредитации командно-начальствующего и политического состава Красной Армии, ложно обвинив самого молодого советского маршала в подготовке переворота с мишенью свержения Сталина. Эта фальшивка сыграла роковую роль в так называемом раскрытии «военно-фашистского заговора» в рядах Красной Армии. Шелленберг, в частности, строчит в своих мемуарах: «Гейдрих (в то время начальник Тайной государственной полиции, группенфюрер СС) получил от проживавшего в Париже белогвардейского генерала, некоего Скоблина, извещение о том, что советский генерал Тухачевский во взаимодействии с германским генеральным штабом планирует свержение Сталина…. Скоблин вполне мог играть двойную роль по заданию русской рекогносцировки….
…(Янке – одна из руководящих фигур немецкой тайной службы, работавший под прикрытием немецкого помещика) считал даже, что вся эта история инспирирована. В любом случае необходимо было учитывать возможность того, что Скоблин передал нам планы переворота, лелеемые якобы Тухачевским, только по поручению Сталина. При этом Янке полагал, что Сталин при помощи этой акции намеревается побудить Гейдриха, верно оценивая его характер и взгляды, нанести удар (по) командованию вермахта, и в то же время уничтожить генеральскую «фронду», возглавляемую Тухачевским, какая стала для него обузой….
Информация Скоблина была передана Гитлеру. Он стал теперь перед трудной проблемой, какую необходимо было решить. Если бы он высказался в пользу Тухачевского, советской власти, может быть, пришел бы конец, однако неуспех вовлекла бы Германию в преждевременную войну. С другой стороны, разоблачение Тухачевского только укрепило бы власть Сталина, Гитлер разрешил вопрос не в пользу Тухачевского. Что его побудило принять такое решение, осталось неизвестным ни Гейдриху, ни мне. Вероятно, он считал, что ослабление Алой Армии в результате «децимации» советского военного командования на определенное время обеспечит его тыл в борьбе с Западом.
В соответствии со строгим распоряжением Гитлера дело Тухачевского надлежало содержать в тайне от немецкого командования, чтобы заранее не предупредить маршала о грозящей ему опасности. В силу этого должна была и впредь поддерживаться версия о скрытых связях Тухачевского с командованием вермахта; его как предателя необходимо было выдать Сталину. Поскольку не существовало письменных доказательств таких скрытых сношений в целях заговора, по приказу Гитлера (а не Гейдриха) были произведены налеты на архив вермахта и на служебное помещение военной рекогносцировки. К группам захвата шеф уголовной полиции Генрих Небе прикомандировал специалистов из соответствующего отдела своего ведомства. На самом деле, бывальщины обнаружены кое-какие подлинные документы о сотрудничестве немецкого вермахта с Красной Армией. Чтобы замести следы ночного вторжения, на пункте взлома зажгли бумагу, а когда команды покинули здание, в целях дезинформации была дана пожарная тревога.
Сейчас полученный материал следовало надлежащим образом обработать. Для этого не потребовалось производить грубых фальсификаций, как это утверждали позже; довольно было лишь ликвидировать «пробелы» в беспорядочно собранных воедино документах. Уже через четыре дня Гиммлер смог предъявить Гитлеру объемистую кипу материалов. После скрупулезного изучения усовершенствованный таким образом «материал о Тухачевском» следовало передать чехословацкому генеральному штабу, поддерживавшему тесные связи с советским партийным руководством. Однако запоздалее Гейдрих избрал еще более надежный путь. Один из его наиболее доверенных людей, штандартенфюрер СС, был послан в Прагу, чтобы там ввести контакты с одним из близких друзей тогдашнего президента Чехословакии Бенеша. Опираясь на полученную информацию, Бенеш написал собственное письмо Сталину. Вскоре после этого через президента Бенеша пришел ответ из России с предложением связаться с одним из сотрудников русского посольства в Берлине. Так мы и сделали. Сотрудник посольства тотчас же вылетел в Москву и вернулся с доверенным лицом Сталина, снабженным специальными документами, подписанными шефом ГПУ Ежовым. Ко всеобщему изумлению, Сталин предложил денежки за материалы о «заговоре». Ни Гитлер, ни Гиммлер, ни Гейдрих не рассчитывали на вознаграждение. Гейдрих потребовал три миллиона золотых рублей — чтобы, как он находил, сохранить «лицо» перед русскими. По мере получения материалов он бегло просматривал их, и специальный эмиссар Сталина выплачивал введённую сумму. Это было в середине мая 1937 года.
4 июня Тухачевский после неудачной попытки самоубийства был арестован и против него по собственному приказу Сталина был начат закрытый процесс. Как сообщило ТАСС, Тухачевский и остальные подсудимые во всем сознались. Через несколько часов после оглашения вердикта состоялась казнь. Расстрелом командовал по приказу Сталина маршал Блюхер, впоследствии сам павший жертвой очередной чистки.
Доля «иудиных денег» я приказал пустить под нож, после того, как несколько немецких агентов были арестованы ГПУ, когда они расплачивались этими купюрами. Сталин произвел выплату крупными банкнотами, все номера каких были зарегистрированы ГПУ».
Историки до сих пор спорят, насколько правдива информация, изложенная Шелленбергом. С одной стороны, на суде Тухачевскому не предъявляли обвинений связанных с так именуемой «красной папкой», полученной от Гитлера при посредничестве президента Чехословакии Бенеша. Вполне возможно, что советские органы госбезопасности это сделали, чтобы сохранить в секрете ключ полученной информации в лице самого Гитлера. С другой стороны, зачем Шелленбергу уже после окончания войны было придумывать эту историю?
Так именуемое «дело Тухачевского» послужило катализатором для волны репрессий в Красной Армии. Согласно официальной справке, подготовленной 24 марта 1940 г. за подписью Е. Щаденко (заместитель наркома обороны СССР, начальство Управления по командному и начальствующему составу РККА), в 1937 г. по различным основаниям (арест, политические мотивы, пьянство, растраты, хищения, моральное разложение, заболевание, инвалидность, преждевременная смерть) из РККА всего было уволено 18 658 лиц командно-начальствующего и политического состава. В 1938-39 гг. после рассмотрения сетований и апелляций были восстановлены в своих должностях 4661 человек. Фактически остались уволенными 13997 человек. Из них были взяты 4268 человек. Еще 6766 человек уволили по политическим мотивам. Таким образом, всего в 1937 г. по политическим мотивам, таким как исключение из партии и связь с неприятелями народа, окончательно уволили из РККА 11034 человека.
В 1938 году из армии уволили 16 362 человек, но после пересмотра дел в 1938–1939 гг. восстановили 6333 человек. Без права восстановления бывальщины уволены 10 029 человек, включая 3807 человек подвергшихся аресту (никто из арестованных позже реабилитирован не был). За связь с заговорщиками бывальщины уволены 716 человек. На основании директивы Народного комиссара обороны от 24.6.38 г. №200/ш (по национальной принадлежности – поляки, немцы, литовцы, финны, корейцы и др., уроженцы заграницы и связанные с ней) было сокращено 2219 человек. Всего по политическим мотивам в 1938 г. из армии было уволено 6742 человека.
В 1939 году под увольнение угоди 1878 человек. По жалобам и апелляциям были восстановлены на службе 184 человека, уволенными остались 1694 человека, в том числе 47 человек очутились под арестом (еще 26 арестованных было реабилитировано). За связь с заговорщиками были уволены из РККА 158 человек. Всего по политическим мотивам в 1939 г. сократили 205 человек.
Таким образом, в 1937–1939 гг. по таким основаниям как арест, исключение из партии за связь с заговорщиками, национальная принадлежность, рождение за рубежом и связь с ней из РККА (без ВВС и ВМФ) было уволено примерно 17981 человек относящихся к командно-начальствующему и политическому составу. Из них под арестом оказалось 8122 человека. По политическим мотивам без права восстановления в армии сократили 9859 человек.
Надо сказать, что в число репрессированных попадали и невиновные люди, которых наказывали «в назидание другим». Любые аресты генералов происходили только с личного согласия Сталина.
Так, по обвинению в участии в троцкистском заговоре и шпионаже 7 июня 1941 г. был арестован Герой Советского Альянса начальник Главного управления противовоздушной обороны Народного комиссариата обороны СССР командарм 2-го ранга (генерал-полковник) Г.М. Штерн (посмертно реабилитирован в 1954 г.). За «вражью работу, направленную на поражение Республиканской Испании, снижение боевой подготовки ВВС Красной Армии и увеличение аварийности в Военно-Воздушных Мочах» 8 июня 1941 г. был взят под стражу дважды Герой Советского Союза помощник начальника Генштаба по авиации командарм 2-го ранга Я.В. Смушкевич (посмертно целиком реабилитирован в 1957 г.). На основании предписания наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии № 2756/Б от 18 октября 1941 г. совместно с другими офицерами и генералами (всего 20 человек), обвиненными в тяжких государственных преступлениях, оба были расстреляны 28 октября 1941 г. на спецучастке Управления НКВД СССР по Куйбышевской районы.
В то же время многие офицеры подверглись наказанию вполне заслуженно. В 1937 – 39 гг. из РККА за пьянство, растраты, хищения и моральное разложение было сокращено 4048 человек командно-начальствующего и политического состава. Все эти офицеры в наше время некоторыми историками включаются в число репрессированных.
Необходимо произнести, что репрессии среди командиров привели к кадровой чехарде. Так, в ВВС к началу войны 43% командиров всех степеней находилось на занимаемых местах менее 6 месяцев. Ещё в 1940 г. командование Военно-воздушных сил вынуждено было признать: «Командные кадры ВВС в массе своей молодые, с недостаточной теоретической подготовкой… в своем большинстве это вчерашние пилоты».
Аналогичная ситуация сложилась и в войсках ПВО. В апреле 1941 г. недокомплект начальствующего состава от бригады ПВО и выше составлял 725 человек или 63%. С учетом долей и подразделений ПВО эта цифра достигла 14885 человек или 52,3%.
Таким образом, к началу войны на всех уровнях командных должностей руководство армиями в большинстве своем осуществляли командиры, не имевшие должного опыта работы в занимаемых должностях.
6. Просчеты наркомата обороны и генштаба РККА.
Пытаясь как можно буквальнее определить ближайшие намерения Гитлера в отношении СССР, ТАСС передал 14 июня 1941 г. Сообщение о дружеских намерениях Советского Альянса по отношению к Германии. Однако Берлин полностью проигнорировал заявление Кремля, что указывало на подготовку к военным действиям. Заявление ТАСС было устремлено и к руководству США и Англии. Вашингтон и Лондон как бы предупреждались Москвой, что Советский Союз не планирует напасть на Германию первым ни при каких обстоятельствах.
Учитывая молчание Берлина, в этап с 14 по 19 июня наркомат обороны дал указание в срок с 21 по 25 июня 1941 г. вывести фронтовые управления на полевые командные пункты. По директиве генштаба с 15 июня 1941 г. 32 дивизии из второго оперативного эшелона (не путать со вторым стратегическим эшелоном) и резервов командующих приграничных военных округов начали замкнутое выдвижение вперед, чтобы занять позиции на расстоянии 20 – 80 км от границы. К сожалению, до начала гитлеровской агрессии многие доли согласно планам прикрытия не успели переместиться и были застигнуты танковыми клиньями врага на марше или на неподготовленных позициях, что повергло к большим потерям среди советских войск.
Несмотря на то, что директивы наркома обороны маршала С.К. Тимошенко и начальника генерального штаба генерала армии Г.К. Жукова имели мишень подготовить Красную Армию к отражению нападения вермахта, в них содержался целый ряд противоречий. С одной стороны требовалось выдвинуть доли и соединения согласно планам прикрытия госграницы, рассредоточить авиацию, приступить к маскировке войск. Ставилась задача ускорить стройка укрепленных районов, фронтовых командных пунктов, полевых укреплений, противотанковых препятствий и полевых аэродромов. С другой стороны, командующие приграничными военными округами получили директива не поддаваться на провокации. Сталин был убежден, что Германия не начнет войну, а лишь устроит вооруженный конфликт. Затем Гитлер предъявит Москве ультиматум с заявкой увеличить экономическую помощь либо потребует передать Третьему рейху Украину и Прибалтику.
В Кремле также знали о планах пробритански настроенных польских партизан. По распоряжению из Лондона они должны были в немецкой военной форме напасть на приграничные советские части и тем самым спровоцировать удар Алой Армии по частям вермахта, спровоцировав войну.
Имелись и другие серьёзные просчеты. Так, наркомат обороны и Генштаб полагали, что вторжение гитлеровских армий будет происходить постепенно, а не лавинообразно как при «молниеносной войне». Ошибочно считалось, что для стратегического развертывания вермахту потребуется до 15 дней. Не учитывалось, что германская армия уже воюет несколько лет и целиком отмобилизована и развернута. Поэтому сроки боевой и мобилизационной готовности Красной Армии были выбраны неправильно.
Разработанные в штабах приграничных военных округов документы измерили из наличия угрожаемого периода, который позволял в мирных условиях скрытно поднять войска по тревоге, вывести их из мест расквартирования в зоны сбора по боевой тревоге, а затем выдвинуть согласно плану обороны. Несмотря на успешное использование Гитлером стратегии «молниеносной брани» в войнах против Польши, Франции, Югославии, Греции и других стран советское высшее командование вообще не рассматривало вариант неожиданного нападения противника. Красная Армия по-прежнему оставалась на границе полностью не развернутой как для оборонительных, так и для наступательных действий. Многие оперативные документы до основы войны не удалось утвердить в генеральном штабе. Советские войска дислоцировались вдоль будущей линии фронта равномерно без учета трагического эксперимента польских и французских вооруженных сил. Это во многом облегчило вермахту прорыв советской обороны и не позволило частям Красной Армии скоро перегруппироваться, сосредоточиться и контратаковать.
7. Недооценка опыта боевых действий вермахта против армий Польши и Франции.
Когда в 1940 г. генералу армии Г.К. Жукову принесли на ознакомление доклад советской рекогносцировки об опыте боевых действий вермахта по разгрому вооруженных сил Франции, он написал на документе, что ему это неинтересно. Если Г.К. Жукову в силу природного полководческого таланта и приобретенного военного опыта этот материал мог быть действительно неинтересен, то для многих других советских генералов знание стратегии и тактики вермахта по ведению «молниеносной брани» против Польши и Франции было просто необходимо.
10 мая 1940 г. германские войска, включавшие 136 дивизий, в том числе 10 танковых и 6 моторизованных, а также одну бригаду и два отдельных полка перебеги границу Бельгии и Нидерландов с целью последующего разгрома Франции. Немецкие войска насчитывали 2580 танков, 3834 военных самолёта, 7378 артиллерийских орудий калибром 75 мм и выше. Всего для реализации планов «Гельб» (захват Нидерландов, Бельгии, Люксембурга) и план «Рот» (захват Франции) Гитлер привлек немало 3,3 млн. солдат и офицеров. Французская армия насчитывала 2 млн. 674 тыс. человек, 2789 танков (из них 2285 современных по тому поре), 11 200 орудий калибром 75 мм и выше и 1648 боевых самолётов (без учета морской авиации). Британский экспедиционный корпус имел в своем составе 310 танков, возле 1350 орудий полевой артиллерии и около 500 самолетов. Всего французская армия и британский экспедиционный корпус насчитывали 108 дивизий. К этому надо добавить 600 тыс. бельгийцев (23 дивизии) и 350 тыс. голландцев (10 дивизий). Всеобщая численность армии союзников составляла 3 млн. 785 тыс. человек. Несмотря на количественное превосходство над немецкими войсками уже через 44 дня с момента основы боевых действий Франция сдалась. В Париж вошли немецкие войска. 22 июня 1940 г. уполномоченный представитель французского правительства подмахнул соглашение о перемирии, по сути, являвшееся капитуляцией.
Одна из главных причин быстрого разгрома Франции и ее британских союзников заключалась в ошибочной оборонительной стратегии. Французское военное командование измерило из опыта Первой мировой войны и расположило свои войска равномерно на «линии Мажино». Стратегические резервы в глубине края не создавались. Были допущены и другие серьезные ошибки. В этих условиях Гитлер использовал фактор внезапности, создал решающий перевес сил на основных направлениях, массированно применил танки и авиацию, а также десант. Основной удар немецкие войска нанесли через Бельгию, а затем сквозь Арденнские горы в обход основных сил и укрепрайонов французской армии. В результате германская армия одержала стремительную победу. Утраты французов составили 84 тыс. человек убитыми, 1 млн. 547 тыс. человек пленными. Германия потеряла 27074 убитыми, 18384 исчезнувшими без вести и 111043 ранеными. Нежелание французов воевать в наше время на Западе связывают с большими потерями в годы Первой всемирный войны, когда погиб почти 1 млн. военнослужащих из 19 млн. мужского населения Франции.
Пренебрежительное отношение к опыту военной кампании во Франции не позволило командованию Алой Армии правильно определить направление главного удара врага. Политическое и военное руководство СССР исходило из того, что Германия основной удар нанесет на Украине. С точки зрения генштаба РККА немцы основные силы должны были бросить в курсе Львова и Киева. Гитлер был крайне заинтересован в пополнении продовольственных запасов, так как оккупированную Бельгию охватил голод. В случае успешного наступления немецкие армии должны были захватить сельскохозяйственные и промышленные районы Украины, Донбасский угольный бассейн, выйти к нефтепромыслам Грозного и Баку. Ожидалось, что другой удар противник направит через Ригу на Ленинград. Рассматривался также вариант вторжения германских войск через Вильнюс на Витебск с последующим продвижением на Смоленск и Москву. Наступление вермахта по черты Брест – Минск и далее на советскую столицу в Кремле считали маловероятным.
Наступать через Белоруссию было сложно. Этому препятствовали бесчисленные болота, реки, озера и густые леса. И Гитлер действительно вначале планировал нанести главный удар на южном курсе с целью захвата Украины. Важную роль в обороне советских войск должны были сыграть укрепрайоны (УР), расположенные на так именуемой «линии Сталина». После переноса границы СССР на Запад началось строительство новой линии укреплений – «черты Молотова». Находящееся на «линии Сталина» вооружение было демонтировано, а сама линия укреплений законсервирована. Таким образом, уложилась ситуация когда старая линия обороны оказалась незащищенной, а новая только начинала строиться. Когда Гитлер от немецкой рекогносцировки узнал об отсутствии вооружения на «линии Сталина», то быстро изменил свои планы. Главный удар через Белоруссию должен был сделаться неожиданным для советского командования и в случае успеха значительно сокращал расстояние, которое должны были преодолеть немецкие армии до Москвы.
Надо сказать что, несмотря на демонтаж вооружений, части Красной Армии на некоторое время сумели закрепиться в Минском и Киевском укрепрайонах. Киевский укрепрайон, несмотря на его последующую утрату, сыграл значительную роль в срыве гитлеровского плана «молниеносной войны». Еще один укрепрайон, Карельский, финские войска так и не смогли прорвать. Иные укрепрайоны немецкие войска захватили сходу, и они отводимую им роль не сыграли.
В 1989 г. в Москве состоялась военно-научная конференция инструктивного состава центрального аппарата ВВС под названием «1941 год – опыт планирования и применения Военно-воздушных сил. Уроки и выводы». В докладе Главнокомандующего ВВС Маршала авиации Ефимов А.Н., в частности, говорилось, что перед Великой Отечественной бранью в советскую военную науку и практику обучения и воспитания советских военных кадров проникли догматизм, субъективизм и зазнайство. «В этих утвердившихся в нашей пропаганде хвастливых, категоричных, не вынесших испытаний временем рекомендациях явно видна переоценка боевых и наступательных возможностей нашей армии и недооценка боевых возможностей вероятного противника». Генерал-полковник авиации П.И. Белоножко в своем выступлении «Оперативно-стратегическое развертывание, создание группировки советских ВВС в западных приграничных военных округах в первой половине 1941 года» на этой же конференции подчеркнул: «Элементы зазнайства проявлялись у порядочной части руководящих кадров ВВС в поверхностном изучении вероятного противника, игнорировании его боевого опыта и переоценке своего собственного эксперимента. Мало внимания уделялось изучению опыта начавшейся Второй мировой войны в Европе». Еще один докладчик, генерал-полковник авиации Л.Л. Батехин, обращает внимание на такие недостачи, как «неумение организовать и осуществлять взаимодействие с наземными войсками; слабая подготовка к полетам по приборам и в сложных метеоусловиях; недостаточная групповая слетанность и штурманская подготовка; низенькая точность бомбометания; высокий уровень небоевых потерь; отсутствие у истребителей твердо закрепленных навыков ведения группового боя».
8. Не отдадим ни пяди родимый земли врагу.
Ещё одной роковой ошибкой наркомата обороны и генштаба стал крен в сторону наступательной стратегии Алой Армии. В ее основу был положен опыт Первой мировой и Гражданской войн. Недооценив противника, наркомат обороны и генштаб сделали ставку на контрнаступление, а не на тщательно спланированную и неплохо подготовленную стратегическую оборону. Поэтому на учениях действия в обороне отрабатывались условно. После нанесения удара вероятного противника доли с минимальными потерями якобы успешно отражали его и тут же переходили в контрнаступление. Почти все учебные задачи носили наступательный характер. Забегая вперёд, вытекает сказать, что анализ крупных боевых операций Красной Армии в Великую Отечественную войну показывает, что генштаб РККА лишь к июлю 1943 г. при подготовке Курского сражения приобрел необходимые знания и опыт, позволившие ему заранее спланировать глубокоэшелонированную стратегическую оборону, а затем намести контрудар.
Имея значительное количественное (но не качественное!) превосходство по танкам и самолетам над гитлеровскими войсками советское руководство не планировало воевать на своей территории. Немало того, из-за излишней самоуверенности в Кремле не стали доверять донесениям советской разведки, что войскам первого стратегического эшелона армий заслоны общей численностью 2,9 млн. человек противостоит 4-х миллионная гитлеровская наступательная группировка. Всего же в нападении на СССР было задействовано 4,6 млн. немецких военных, из которых 3,3 млн. человек – сухопутные войска, 1,2 млн. человек – ВВС и ПВО, 100 тыс. человек – силы флота. Немцам также помогали 0,9 млн. боец и офицеров из соединений ряда европейских государств. Генштаб Красной Армии не учел, что общая численность войск вермахта к 22 июня 1941 года достигла 7,2 млн. На Германию трудилось 4876 предприятий на территории оккупированной Франции, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии. Чешские заводы «Шкода» в три смены ремонтировали танки, а французские предприятия «Рено» и филиал американского «Форда» круглосуточно изготавливали грузовики и моторы для нужд вермахта и люфтваффе.
По плану советского командования после нападения германских армий Красная Армия вместо организованного отхода на заранее подготовленные укрепленные рубежи должна была нанести ряд мощных контрударов по неприятелю с целью переноса военных действий за пределы СССР. Уже вечером 22 июня 1941 г. нарком обороны маршал С.К. Тимошенко издал распоряжение выбить немцев с советской земли и наступать на Люблин. Как правило, неподготовленные и непродуманные атаки советских войск приводили к тому, что доли сами втягивалась в немецкое окружение. Стрелковые дивизии и танковые корпуса вступали в сражение по мере прибытия в район военных действий, а не после сосредоточения, что распыляло силы и многократно ослабляло мощь контратак Красной Армии. К катастрофическим последствиям повергла потеря управления советскими войсками и почти полное отсутствие снабжения боеприпасами, топливом и продовольствием.
Целый комплекс просчетов как наркомата обороны, так и генштаба в первоначальный период Великой Отечественной войны привел к тому, что к концу 1941 г. Красная Армия потеряла 900 тяжелых, 2300 посредственных и 17300 легких танков, а также 3000 бронемашин, тягачей и другой бронетехники. Потери в орудиях и минометах составили 101100 ед. Всеобщие потери боевых самолетов достигли 17300, из них боевые потери – 10300 ед. («Россия и СССР в войнах XX века. Утраты Вооруженных Сил. Статистическое исследование» под общей редакцией кандидата военных наук генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева).
Надо признать, что стратегическое планирование высшего руководства Германии накануне и в первые месяцы брани отличалось гораздо большей продуманностью и тщательностью. Заключив с Советским Союзом пакт Молотова – Риббентропа и согласившись на включение в пояс интересов Москвы ранее входивших в состав Российской империи территорий – Западной Украины, Западной Белоруссии, стран Прибалтики, а также Бессарабии, Гитлер фактически выманил из внутренних округов к новоиспеченной советской границе почти все наиболее боеспособные части Красной Армии. Эти соединения были сформированы до 1 сентября 1939 г. и поспели до начала Великой Отечественной войны получить боевой опыт. В силу участия в «освободительном походе» по возврату земель ранее относившихся Российской империи они оказались в первом стратегическом эшелоне. Несмотря на ожесточенное сопротивление уже в первые недели войны эти самые боеспособные советские армии были внезапным ударом окружены и уничтожены.
Помогла немцам и, мягко говоря, странная беспечность ряда советских генералов. Так, командующий Западным особым военным округом генерал армии Павлов Д.Г. не выполнил директивы генштаба от 13 – 18 июня 1941 г. о реализации плана заслоны госграницы. В свою очередь генеральный штаб РККА по непонятным причинам не проконтролировал исполнение своих указаний. Быстрый разгром Западного фронта не позволил Алой Армии уже в первый месяц войны сорвать гитлеровский план «молниеносной войны».
Не забывать уроки лета 1941 г.
Не поспев своевременно подготовить армию и страну к предстоящим сражениям, высшее советское руководство вынужденно было мобилизовать все имеющиеся военные, экономические и людские ресурсы, чтобы вначале застопорить, а затем отбросить и разгромить врага. Цена, которую заплатил за победу Советский Союз, огромна. Погибло 26,6 миллионов человек, из каких свыше 14 миллионов – преднамеренно истребленное гитлеровцами по расовому признаку мирное население. Враг разрушил 1710 городов и поселков, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи индустриальных предприятий.
Эти страшные цифры заставляют нас не забывать о той трагедии, которая произошла в первые месяцы Великой Отечественной войны.
И в наши дни угроза захватнических действий против России со стороны ряда стран Запада становится всё реальнее. Поэтому уроки лета 1941 г. не утеряли свою актуальность и сегодня. Не допустить их повторения можно лишь при выполнении трёх основных условий. К ним можно отнести способность руководства края в случае начала военных действий эффективно управлять государством, наличие экономической базы для производства самого современного вооружения в достаточном числе и нужного качества, высокую боевую выучку личного состава Вооруженных сил – от генерала до рядового. Без решения этих принципиальных задач сообщать о сохранении суверенитета России не имеет смысла.
Список литературы:
1. Великая Отечественная война 1941-1945 (в 12 томах). Воениздат, Кучково поле. Москва, 2011-2015.
2. История Другой мировой войны (в 12 томах). 1939-1945 гг. Воениздат, 1974.
3. Русский архив. Великая Отечественная. Приказы народного комиссара обороны СССР. Институт военной истории Министерства обороны Российской Федерации, Российский государственный военный архив. Терра. Москва, 1994.
4. Россия и СССР в бранях XX века. Потери Вооруженных Сил. Статистическое исследование. Под общей редакцией кандидата военных наук генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева. Москва, Олма-Пресс, 2001.
5. Противовоздушная оборона края (1914-1995 гг.). Военно-исторический труд. Министерство обороны Российской Федерации. Военно-воздушные силы. Москва, 1998 г.
6. Лашков А.Ю., Голотюк В.Л., 100-летие противовоздушной обороны России 1914-2014 гг. Москва, 2014.
7. 1941 год – эксперимент планирования и применения Военно-воздушных сил. Уроки и выводы. Материалы военно-научной конференции руководящего состава центрального аппарата ВВС. Москва, 1989.
8. Итоги и задания Великой Отечественной войны. Война и современность. (Материалы военно-исторической конференции Главного управления Сухопутных войск, посвященной 55 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной брани 1941 – 1945 гг.). Главное управление Сухопутных войск, Москва, 2000.
9. Хазанов Д.Б. 1941. Война в воздухе. Горькие уроки. Москва. Яуза, Эксмо, 2006.
10. Проект постановления СНК СССР «О мобилизационном плане на 1941 год» от 12.02.1941 г. Архив Александра Н. Яковлева. Документ №273.
11. Кредитное договоренность между Союзом Советских Социалистических Республик и Германией от 19 августа 1939 г.
12. Соображения Генерального штаба Красной Армии по плану стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского Альянса на случай войны с Германией и ее союзниками (не ранее 15 мая 1941 г.).
13. В. Шеленберг. Мемуары. Лабиринт. Родиола-плюс, 1998.
14. Светлишин Н.А. Крутые ступени судьбины: Жизнь и ратные подвиги маршала Г.К. Жукова. Хабаровск. Книжное издательство, 1992.
15. Из доклада заместителя наркома обороны СССР Е.А. Щаденко в Политбюро ЦК ВКП(б) И.В. Сталину, СНК СССР В.М. Молотову, НКО СССР К.Е. Ворошилову, Оргбюро ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву о состоянии кадров РККА. 11 марта 1938 г.
16. Справка о числе уволенного командно-начальствующего и политического состава за 1935-1939 гг. (без ВВС). 24-25 марта 1940 г.