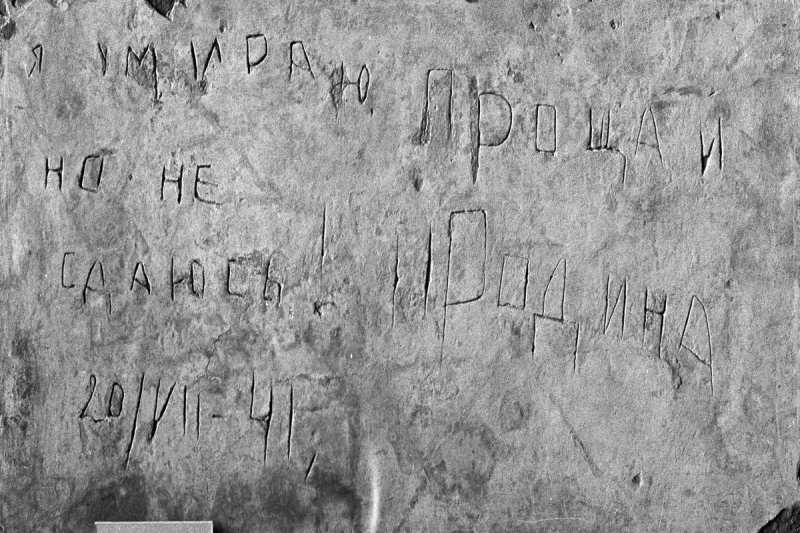издается с 1879Приобрести журнал
исторический научно-популярный журнализдается с 1879rodina-history.ruНайти
ТННиколай Троицкийдоктор исторических наукНебываемое случается?17:35Родина – Федеральный выпуск: №9 1994поделиться
В российской истории XIX века Отечественная война 1812 года величаво возвышается на фоне остальных событий, став предметом наибольшего числа не только научных, но и художественных сочинений1.

из архива журнала “Отечество”
Оборона Смоленска. Худ. Н. Кривоногов.
Традиции здесь у нас богатейшие: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, Н. А. Некрасов (имею в виду его малоизвестное стихотворение 1846 года: “Так, служба! Сам ты в той брани…”), Лев Толстой, Марина Цветаева, не говоря уже о К. Н. Батюшкове, В. А. Жуковском, П. А. Вяземском, М. Н. Загоскине, Д. Л. Мордовцеве, Г. П. Данилевском, Я. П. Полонском. Но в советской художественной литературе нет почти ничего, что можно было бы сопоставить с произведениями кого-нибудь из перечисленных авторов по достоверности и выразительности. Как исключения могу назвать лишь старый роман Сергея Голубова “Багратион” и “Рандеву с Бонапартом” Булата Окуджавы2. Здесь художественность сочетается с исторической правдой, хотя и не без ошибок в деталях.
Почему же сравнение с искусниками прошлого столь невыгодно для советских писателей? Одна из причин очевидна и от нас не зависит (отсутствие равновеликих талантов), а две другие мы, homo sovetiсus’ы, созидали и притом камуфлировали сами: это, во-первых, идейная зашоренность, и, во-вторых, направляющее воздействие историков на писателей (точнее даже искательное равнение писателей на официозных историков).
Дело в том, что за заключительные полвека советской историографии “Двенадцатого года” в ней укоренились надуманные стереотипы, изобилующие намеренной или нечаянной подтасовкой всего и вся. Их насаждали основным образом военные историки П. А. Жилин, Н. Ф. Гарнич, Л. Г. Бескровный, а вслед за ними, уже в 80-е годы, И. И. Ростунов, В. Д. Мелентьев, В. Г. Сироткин, О. В. Орлик – уместно говоря, первая в отечественной (а может быть, и в мировой) историографии женщина, дерзнувшая написать книгу специально о войне. Ее труд под названием “Гроза двенадцатого года” появилась на третьем году горбачевской “перестройки”, но сориентирована по Жилину, а “перестройка” выразилась тут в том, что автор открыла и закрыла книгу цитатами из решений новейшего съезда КПСС и в указатель имен между фельдмаршалами Барклаем де Толли и Кутузовым включила генсека Горбачева.
Собственно на этих историков равнялись почти все наши литераторы, писавшие о 1812 годе, игнорируя подлинно научные исследования темы – обобщающего (в первую очередность, академика Е. В. Тарле) и частного характера (А. Н. Кочеткова, В. В. Пугачева, А. Г. Тартаковского). Валентин Пикуль в гневе на Е. В. Тарле и А. З. Манфреда за то, что они врага России Наполеона находили умным, талантливым человеком, назвал “этих вот Тарле и Манфреда”, как он выразился, “ярыми бонапартистами”3. Так же настроены Олег Михайлов, Сергей Алексеев, Геннадий Серебряков, Алексей Марков и многие иные писатели.
Все они трактуют происхождение войны 1812 года а la Жилин: дескать, Наполеон по своей “алчности и кровожадности” (а еще по “неутоленной, бездонно личной и весьма мелочной обиде незадачливого наемника и просителя, которому отказали в желаемом месте”, то есть в просьбе 1789 года зачислить его,19-летнего лейтенанта Бонапарта, на русскую службу) стремился “захватить, раздавить” Россию; Россия же по своему миролюбию хотела итого лишь оборонить себя. При этом буржуазная Франция изображается как “отвратительная тирания” и даже как “распутная девка”, олицетворяющая “мрак” и “всемирное зло” капитализма; феодальная же Россия – так умильно, как если бы в ней уже тогда был “развитой социализм”: вся ее внешняя политика, включая борьбу с Великой Французской революцией, представлена “правой”, а о планах и фактах ее агрессии против Польши (1794), Турции (1806), Швеции (1808) и той же Франции (1799) ничего не произнесено4.
Подобно нашим историкам, писатели не спешат признать, что “алчность” царизма так же вела к войне 1812 года, как и “алчность” Наполеона. Они умалчивают, что к озари 1811 года Россия по договоренности с Пруссией уже готова была напасть на Наполеона: 24, 27 и 29 октября Александр I “высочайше повелел” командующим пятью корпусами на западной рубежу (П. И. Багратиону, П. Х. Витгенштейну, Д. С. Дохтурову, И. Н. Эссену и К. Ф. Багговуту) приготовиться к походу. Россия могла начать войну со дня на день – есть ровные свидетельства об этом М. Б. Барклая де Толли, П. Х. Витгенштейна, А. П. Ермолова5. Только вероломство Пруссии, в последний момент из страха перед Наполеоном отказавшейся поддержать Россию, помешало тогда царизму выступить первым.
Как же выглядит Наполеон по разумению большинства наших беллетристов? Ничтожный и тупоголовый авантюрист, “проходимец, ничего собою не представляющий”, “международный бандит”, трус, который “в опасности становился плачевен, презрен, почти гадок”, “мазурик” с “задницей в грязной луже”, способный только “в бешенстве”, “с яростью кретина” изумляться военному искусству русских и трястись перед ним от “ужаса ледяного”, “страха животного” задолго до Бородина, даже в кампаниях 1805-1807 годов6 (читатель, надлежит быть, узнал специфический стиль Валентина Пикуля).
Дабы представить Наполеона как можно более гадким, наши беллетристы сваливают ему деяния, прямо противоположные совершенным. Особенно преуспел в этом Олег Михайлов. Вот, к примеру, два его обвинения Наполеону: “взяв Тулон, хладнокровно расстрелял картечью 4 тыс. пленных – преимущественно портовых пролетариев” (в действительности, освободил этих рабочих из английского плена7); “не задумываясь, приказал уничтожить больных холерой [? – беллетрист спутал здесь холеру с чумой] в Яффе” (в действительности, проявил о них редкую заботу и лично посетил чумной госпиталь; этот его жест воспет великими стихотворцами разных стран, включая нашего Пушкина)8.
Чтобы опошлить романтическую историю любви Наполеона к польской графине М. Валевской, Михайлов сообщает читателю: “Валевская повиновалась в Варшаве первому же жажде Бонапарта”. Кстати, точно так же “переживал” за честь Марыси Валевской В. Пикуль. А ведь на деле завоевание Валевской стоило Наполеону вящих усилий, чем иные его победы над армиями Европы, и об этом можно прочесть с подробностями в десятках книг, среди которых кушать переведенные на русский язык (“Мария Валевская” М. Брандыса) или написанные по-русски (“Наполеон Бонапарт” А. Манфреда).
Если Наполеон под пером наших беллетристов сверх всякой меры принижен, расплющен, то Кутузов превознесен до высот полубога. “Спаситель России” – так величает его Олег Михайлов9, не осознающий ту великую истину, что избавителем России был ее НАРОД. Возвеличиваются все заслуги Кутузова – истинные и мнимые. Замалчивается все, что говорит не в его пользу: его участие в борьбе с крестьянскими “непорядками” 1812 года, оставление в Москве, заведомо обреченной на сожжение, 22,5 тысячи своих раненых, которые большей долей сгорели; просчеты в руководстве боевыми действиями при Бородине, Вязьме, Красном и особенно на Березине; придворное низкопоклонство10, остро критические отзывы о нем П. И. Багратиона, Н. Н. Раевского, А. П. Ермолова, Д. С. Дохтурова11, а подобный же отзыв А. В. Суворова (“Я не кланяюсь Кутузову: он раз поклонится, а десять раз проведёт!”) О. Михайлов пытается обратить даже в пользу Кутузова как свидетельство такой его сверходаренности, в которой Суворов не мог разобраться.
В свое пора корифей всех наук изрек: “Кутузов как полководец был бесспорно двумя головами выше Барклая де Толли”. Развивая этот сталинский тезис, стихотворец Н. И. Рыленков “подсчитал”, что Кутузов как полководец был выше Барклая на расстояние между Тарутином и Нижним”.
Среди домыслов, идеализирующих Кутузова, какие писатели заимствуют у таких историков, как П. А. Жилин и Н. Ф. Гарнич, есть и тезис о том, что Кутузов был назначен в 1812 году главнокомандующим “по заявке народа”. Приходится напомнить общеизвестное и бесспорное: народ тогда о Кутузове не высказывался, царь следовал мнению дворянской верхушки, а назначить Кутузова главнокомандующим предложил царю чрезмерный комитет из высших сановников Империи по докладу и рекомендации А. А. Аракчеева12.
Ход войны 1812 года наши писатели изображают ухарски: французы с первых же дней при малейшей неуспеху бегут, а русские лишь в крайности отступают, чаще просто отходят – и вдруг те и другие, встретившись на Немане, через два с половиной месяца отчего-то оказываются под Москвой. У Сергея Алексеева русский гренадер, отступая к Москве, один гонит в плен “послушным стадом” цельную роту французов, а когда отступают французы, их ловят старики, дети и… животные. Рассказ об этом писатель наименовал: “Небывалое бывает”.
Ведущий публицист “Военно-исторического журнала” времен “перестройки” Карем Раш формулировал этот феномен еще затейливее: “небываемое случается”. Именно так – “небываемо” – русский генерал Костенецкий в романе В. Пикуля один отражает при Бородине атаку французской кавалерии артиллерийским банником: замах – “и человек десять полегли под копыта своих коней. Еще замах – и образовалась просека во вражьих рядах”. Столь же играючи “расколошмачивают” и “сметают” русские любого врага (включая гвардию Наполеона) под пером иных советских писателей13.
Так, например, Лев Рубинштейн в романе “Дорога победы” писательски измышлял, что солдаты наполеоновской гвардии обращались в бегство, едва-едва заслышав клич русских солдат: “Москва!” А вот что свидетельствовал очевидец и герой событий 1812 года Денис Давыдов – не немного замечательный русский патриот, чем Л. Рубинштейн, В. Пикуль и кто угодно.
Ноябрь. Французы отступают уже к Смоленску. Их преследуют регулярные части русской армии, а казаки и партизаны, вводя отряд Давыдова, атакуют противника с флангов и даже спереди. “Подошла Старая гвардия, посреди коей находился сам Наполеон <…> Мы вспрыгнули на коней и явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал линия, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хотя [бы] одного рядового от сомкнутых колонн, они, как гранитные, пренебрегали все усилия наши и остались невредимыми <…> Я никогда не позабуду свободную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти угрожаемых воинов! <…> Гвардия с Наполеоном прошла посреди гурьб казаков наших, как стопушечный корабль между рыбачьими лодками”14. Денис Давыдов понимал, что чем сильнее враг, тем славнее над ним победа, и потому не страшился писать правду.
Разумеется, в центре внимания советских беллетристов, писавших о 1812 годе, Бородинская битва. Почти все литераторы отчего-то считают, что подвиг русских солдат, которые выстояли при Бородине в сражении с лучшей армией мира, недостаточно впечатляющ и потому надо его непременно приукрасить. Они утверждают, что Кутузов “блестяще выполнил свой план” на Бородинскую битву и одержал в ней “крупнейшую победу”, а поскольку подобный вывод не согласуется с задачей, которую при Бородине ставил перед собою Кутузов (“спасение Москвы”), они и кутузовскую задачу перетолковывают, подгоняя ее под итог битвы: “сохранение твердости и веры”. С другой стороны, писатели заключают, что Наполеон при Бородине “впервые проиграл генеральное сражение”, причем будто бы сам признал это, заявив (дальше они вслед за историками, вроде П. А. Жилина, “цитируют” сказанное Наполеоном на острове Святой Елены: “Из 50-ти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан минимальный успех”)15. Все это заключение – сплошь путаница и бессмыслица.
Во-первых, генеральное сражение при Бородине Наполеон не проиграл и даже взял после него древнюю столицу России, а если бы даже и проиграл, то уже не впервые, ибо общеизвестен факт (засвидетельствованный во всех энциклопедиях вселенной), что еще 22 мая 1809 года Наполеон был разбит австрийским эрцгерцогом Карлом в генеральном сражении под Эсслингом (Асперном). Наконец, Наполеон после Эсслинга, Лейпцига и Ватерлоо не мог произнести, что “наименьший успех” он имел при Бородине. Как явствует из первоисточника, на острове Святой Елены он сказал следующее: “Битва на Москве-реке была одной из тех (курсив мой. – Н. Т.) битв, где обнаружены наибольшие достоинства и достигнуты наименьшие результаты”16.
Писатели держатся даже за стереотипы, давно опровергнутые историками: Наполеон налетел на Россию “без объявления войны”; Москву сожгли французы – даже “по приказанию Наполеона”; П. И. Багратион – “ученик”, а то и “лучший ученик” Кутузова; Денис Давыдов – “первоначальный партизан” 1812 года и т. д.17.
В действительности же историки мира всегда знали, что Наполеон за два дня до нашествия на Россию объявил ей войну в обыкновенном дипломатическом порядке, а в 1962 году нота Наполеона с объявлением войны России была опубликована в советском издании и давным-давно доступна любому из наших писателей18.
Версию о поджоге Москвы Наполеоном давно опроверг – по документам – В. М. Холодковский. Правда, приверженцы этой версии ссылаются на придворный вариант публикации о переговорах Кутузова в Тарутино с посланцем Наполеона Ж.-А. Лористоном, где Кутузов винит Наполеона в поджоге Москвы, но, как установил А. Г. Тартаковский, этот вариант – фальшивка. В подлинных известиях кутузовского штаба фельдмаршал признает (не без гордости), что сожгли Москву русские – из патриотических побуждений, по принципу “не доставайся злодею!”. Эти известия тоже давным-давно опубликованы19.
Что касается Багратиона и Кутузова, то ведь уже сто лет известны письма 1812 года, в которых Багратион (буквально преклонявшийся перед своим преподавателем Суворовым) ругал Кутузова за… бездарность: “его высокопревосходительство имеет особенный талант драться неудачно”, “хорош и сей гусь, какой назван и князем и вождем! Если особого повеления он не имеет, чтобы наступать, я вас уверяю, что тоже приведет (Наполеона. – Н. Т.) к вам (то кушать в Москву. – Н. Т.), как и Барклай <…> Теперь пойдут у вождя нашего сплетни бабьи и интриги”. Могут ли ученики, особенно лучшие, так низко устанавливать своих учителей? Для Багратиона, который, как известно, терпеть не мог Барклая де Толли, Кутузов был вторым Барклаем. “Руки связаны, как прежде, так и сейчас”, – жаловался Багратион Ф. В. Ростопчину 3 сентября 1812 года с Бородинского поля. Совсем иначе, с подобострастной восторженностью, воспринимает Багратион Кутузова под пером Г. Д. Мдивани: повстречав Кутузова, только что назначенного главнокомандующим, говорит ему: “С вами мы победим, Михаил Илларионович!”, а после Бородинской битвы раненный, чуть не на дланях Кутузова, восклицает: “Друг мой, хозяин мой <…> ” (курсив мой – H. T.)20.
Столь же оплошна популярная у наших писателей версия о том, что первоначальный в 1812 году армейский партизанский отряд был “создан Кутузовым” под командованием Давыдова. Еще в начале ХХ века было доказано, что первоначальный в России 1812 года отряд создан М. Б. Барклаем де Толли под командованием барона Ф. Ф. Винценгероде21. Конечно, для русского вести сочетание “Кутузов и Давыдов” звучит приятнее, чем “Барклай де Толли и Винценгероде”, но только ради этого извращать очевидный факт грешно даже художникам, склонным к вымыслу.
К сожалению, сказки и анахронизмы невообразимо засоряют советскую художественную литературу о войне 1812 года. Здесь и анекдотическая трактовка планов Наполеона (“не пошел на Петербург” потому, что “разрешил, что по дороге на Москву ему будет сытнее”), и поддельные надбавки к реестру его преступлений: “это по его приказу французские солдаты едва не загубили в Альпах армию Суворова”22 (спрашивается, зачем Суворов привел свою армию в Альпы и при чем тут Наполеон, если от тогда был в Египте?).
Тут и гротескно-“патриотические” тезисы. Цитирую Михайлова: “Не впервые встречался Кутузов с Наполеоном на поле брани. И всякий раз своей стратегией прославленный русский полководец расстраивал планы Наполеона” – всякий раз, вводя, стало быть, и Аустерлиц, где, как известно, армия Кутузова потерпела от Наполеона одно из тягчайших поражений за всю историю России!23 Тут, наконец, разгульная путаница (у историков школы П. А. Жилина – Н. Ф. Гарнича, кстати, не меньшая, чем у писателей) в событиях, фактах, людях. Так, у Г. Серебрякова и А. Маркова Наполеон к 1801 году, то есть на три года раньше, чем в действительности, “уже до императоров дошагал”.
М. Астапенко и В. Левченко огласили “последним воином Двенадцатого года” Ж. Б. Савэна, умершего в 1894 году, не зная о том, что “воин Двенадцатого года” Г. С. Котлов был еще жив в 1912 году. И. Мюрат у В. Пикуля и А. Маркова – “бывший конюх” и “вице-король Италии”, тогда как в реальности конюхом был Ж. Ланн, а вице-королем Италии – Э. Богарне. О. Михайлов сообщает нам, что в бою под Лубино 19 августа 1812 года погиб “граф Цезарь Гюден – участник всех наполеоновских походов”. Между тем Цезарь Гюден графом не был, во всех походах Наполеона не участвовал, Россию никогда в очи не видел, а 1812 год провел в Испании. Под Лубино же погиб другой Гюден – Шарль Этьен.
Бесцеремонно, вслед за П. А. Жилиным, наши беллетристы путают наполеоновских маршалов. Говоря о 1812 годе, называют маршалами и Ю. Понятовского, и Ж.-А. Лористона, и А. Жюно и П. Дарю, и А. Коленкура, тогда как Понятовский сделался маршалом лишь в 1813 году, Лористон – в 1823-м, а Жюно, Коленкур и Дарю вообще никогда не были маршалами. Даже Кутузов, получивший фельдмаршальский жезл за Бородинскую битву, ходит у кой-каких писателей в фельдмаршалах еще до Бородина.
Столь кричащая неосведомленность в истории “Двенадцатого года” не мешает иным писателям выступать с притязаниями на большие и малые открытия. При этом они опираются на творчество все тех же историков (Олег Михайлов величает поверхностно-конъюнктурное сочинение Жилина “Фельдмаршал Кутузов” “классическим трудом”), а на зарубежные веса (как на буржуев) смотрят свысока. Труды всемирно знаменитого Анри Жомини, включая его 6-томную монографию “Политическая и военная существование Наполеона”, Г. Серебряков пренебрежительно называет “брошюрками”.
А вот и примеры писательских “открытий”. Тот же Серебряков отверг установленный мировой историографией факт, что в битве под Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1807 года Наполеон принудил к отступлению русской армии Л. Л. Беннигсена. По версии Серебрякова, отходить от Эйлау начал во “все убыстряющемся” темпе Наполеон, а Беннигсен его преследовал. Того же Беннигсена, одного из главных убийц Павла I, С. Алексеев вопреки здравому резону объявил “любимцем” императора Александра Павловича.
Согласно В. Пикулю, даже в 1805-1807 годах, то есть во времена Аустерлица и Фридланда, “Наполеон не мог противостоять свирепой мощи русской артиллерии, вечно бывшей лучшей артиллерией мира” (курсив мой. – Н. Т.). В действительности же Наполеон – артиллерист по специальности – именно артиллерию использовал с невиданной до него мощью: факт, общепризнанный всеми весами от Федора Глинки до Фридриха Энгельса. Даже при Бородине, где Наполеон имел лишь 587 орудий против 640 русских, его артиллерия работала маневреннее и эффективнее (в чем, кстати, заключалась главная причина больших потерь оборонявшейся русской армии). “Пальба его могла вредить немало нашей, – признавал герой Бородина Федор Глинка. – Он как зачинщик действовал откуда и как хотел и действовал концентрически (сосредоточенно); мы как ответчики работали, как позволяло местоположение, и потому часто разобщенно, эксцентрически”24.
Итак, с конца 40-х годов советские писатели, вслед за избранным сферой историков, старались изобразить 1812 год как можно “патриотичнее”, хотя бы и в ущерб исторической правде. Конъюнктурщина, заданность, стереотипность мышления довлеют над ними до наших дней. Отсюда – вящая претенциозность их сочинений при малой компетентности. Сегодня все это выглядит попросту глупо. Хочется буквально воззвать к писателям (как, впрочем, и к историкам): останемся патриотами, но сделаемся умными. Вдумаемся в слова одного из умнейших патриотов России: “Прекрасная вещь любовь к отечеству, но есть еще нечто немало прекрасное – это любовь к истине”25. Закон истины требует изображать былое таким, каким оно было, а не превращать его в “небываемое”!
- 1. Выговор идет о произведениях, созданных до распада СССР. В посткоммунистической России “Двенадцатым годом” писатели уже не интересуются.
- 2. Голубов С. Н. Багратион. М., 1943; Окуджава Б. Ш. Рандеву с Бонапартом. М., 1985.
- 3. Кондрияненко В. У последней черты. //Комсомольская правда. 1991. 19 февраля.
- 4. Михайлов О. Н. Суворов. М., 1984. С. 371; он же. Кутузов. М., 1988. С. 185, 186, 446; он же. Славный год брани народной. М., 1990. С. 7; Задонский Н. А. Денис Давыдов. Историческая хроника. М., 1968. С. 161; Серебряков Г. В. Денис Давыдов. М., 1985. С. 52; Астапенко М. П., Левченко В. Г. Атаман Платов. М., 1988. С. 76; Пикуль В. С. Этюды о былом. М., 1989. С. 208; Герои 1812 года. Сборник. М., 1987. С. 255.
- 5. Отечественная брань 1812 г. Материалы Военно-ученого архива Главного штаба (далее – ВУА). СПб., 1904. Т. 5. C. 268-270, 302-304, 313-315; T. 10. С. 109; Писулька М. Б. Барклая де Толли//Военный журнал. 1859. No 1. С. 2; Ермолов А. П. Записки. С приложениями. М., 1865. Ч. 1. С. 123.
- 6. Рубинштейн Л. В. Путь победы. М., 1954. С. 447; Раковский Л. И. Кутузов. Л., 1976. С. 326-331; Виноградов А. К. Три цвета времени. Минск, 1980. С. 43; Алексеев С. П. Невиданное бывает. М., 1980. С. 541; Михайлов О. Н. Генерал Ермолов. М., 1983. С. 177, 178; Марков А. Я. Когда листаешь книгу дней. М., 1986. С. 171; Пикуль В. С. Под шелест знамен. Л., 1989. С. 259, 394-395; Задонский Н. А. Указ. соч. С. 275; Герои 1812 года. С. 255.
- 7. Михайлов О. Н. Кутузов. С. 48. Расстреляны же бывальщины по приговору революционного трибунала (без участия Наполеона и независимо от него) 200 горожан за сотрудничество с англичанами. Наполеон этот расстрел осудил (Наполеон. Избр. созданья. М., 1941. Т. 1. С. 19).
- 8. Михайлов О. Н. Кутузов. С. 514; Пушкин А. С. Герой// Собр. соч. в 10 т. М., 1981. Т. 2. С. 191.
- 9. Михайлов О. Н. Кутузов. С. 432. См. также: Раковский Л. И. Указ. Соч. С. 662; Астапенко М. П., Левченко В. Г. Указ. соч. С. 102; Соловьев В. А. Исторические трагедии. М., 1956. С. 28; Петров (Бирюк) Д. И. Сыны степей Донских. М., 1959. С. 135; Рыленков Н. И. На Старой Смоленской дороге. М., 1969. С. 232.
- 10. В 1795 году, будучи завоёванным, уже 50-летним генералом, Кутузов собственноручно готовил по утрам и подавал в постель последнему екатерининскому фавориту, 27-летнему ничтожеству Платону Зубову, горячий кофе. Об этом с возмущением строчил А. С. Пушкин//Собр. соч. в 10 т. Т. 7. С. 276, 387.
- 11. Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников. СПб., 1882. С. 101: Батюшков К. Н. Соч. СПб., 1887. С. 388 (отзыв Н. Н. Раевского); Послание Д. С. Дохтурова к его супруге// Русский архив. 1874. No 5. С. 1098; Ермолов А. П. Характеристика полководцев 1812 г.//Родина. 1994. No 1. С. 56-60.
- 12. М. И. Кутузов. Сборник документов. М., 1954. Т. 4. Ч. 1. С. 71-73.
- 13. Алексеев С. П. Указ. соч. С. 473, 575; Пикуль В. С. Под шелест знамен. С. 259; Его же. Этюды о былом. С. 188, 209- 210; Рубинштейн Л. В. Указ. соч. С. 583; Серебряков Г. В. Указ. соч. С. 58; Марков А. Я. Указ. соч. С. 182; Михайлов О. Н. Славный год брани народной. С. 32.
- 14. Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1962. С. 370-371.
- 15. Михайлов О. Н. Кутузов. С. 469- 470; Рубинштейн Л. В. Указ. соч. С. 448; Задонский Н. А. Указ. соч. С. 199; Петров (Бирюк) Д. И. Указ. соч. С. 203.
- 16. Las-Cases E. Memorial de St. Helene. Paris, 1840. Vol. 6. P. 141.
- 17. Помимо уже неоднократно цитированных трудов см. Рыкачев Я. С. Великое посольство. Исторические повести. М., 1960. С. 310; Мдивани Г. Д. Петр Багратион//Избр. созданья. М., 1974. Т. 2. С. 414, 468; Григорьев С. Т. Двенадцатый год. М.; Л., 1941. С. 110.
- 18. Внешняя политика России ХІХ – начала ХХ в. Документы Российского мин-ва иноземных дел. Сер. І. М., 1962. Т. 6. С. 756.
- 19. Холодковский В. М. Наполеон ли поджег Москву?//Вопросы истории. 1966. No 4; Тартаковский А. Г. Военная публицистика 1812 г. М., 1967. С. 147; Листовки Отечественной брани 1812 г. М., 1962. С. 47.
- 20. ВУА. Т. 5. С. 74; Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников. С. 101, 109; Пожар Москвы. По воспоминаниям и писулькам современников. М., 1911. Ч. 2. С. 53; Мдивани Г. Д. Указ. соч. С. 435, 468.
- 21. ВУА. Т. 17. С. 155, 157; Волконский С. Г. Записки. СПб., 1901. С. 175-182; Бумаги П. И. Щукина. СПб., 1908. Т. 7. С. 249-256.
- 22. Пикуль В. С. Под шелест знамен. С. 389; Корольченко А. Ф. Атаман Платов. Ростов н/Д., 1986. С. 107; Михайлов О. Н. Бородино. М., 1982. С. 56.
- 23. Михайлов признает, что Кутузов был при Аустерлице, но якобы “лишь наблюдал, a распоряжался Всем Александр I (Михайлов О. Н. Славный год войны народной. С. 162). Между тем, заглянув в любое из описаний Аустерлицкой битвы, легковесно понять, что распоряжался русской армией ее главнокомандующий Кутузов, а царь “только наблюдал”.
- 24. Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1987. С. 321.
- 25. Чаадаев П.Я. Апология умалишенного//Статьи и письма. М., 1989. С. 147-148.
Подпишитесь на нас в Dzen
Новости о прошлом и репортажи о настоящем
подписаться