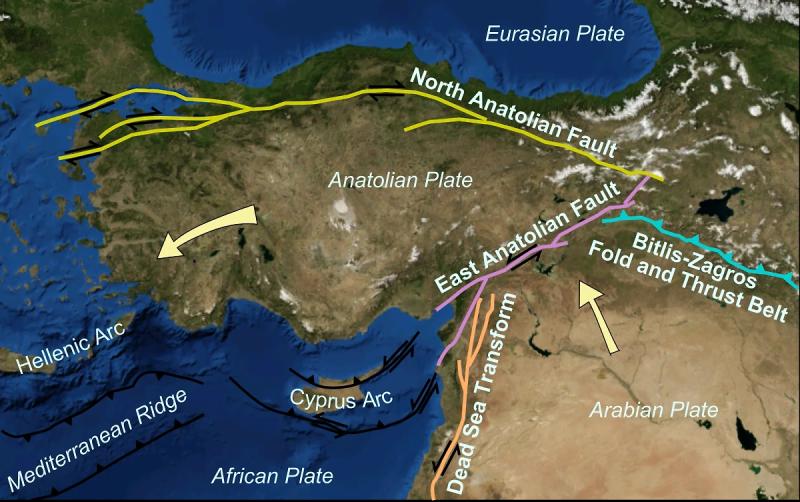Шо це було?
Так спрашивают наши украинские братья, когда что-то случилось, а что – непонятно. Вот и мы сегодня в связи с круглой датой – 40 лет начала «перестройки» снова и снова задаём старый вопрос: что же это всё-таки было – «перестройка»?
Мне представляется, ответ не замысловат и в общем-то лежит на поверхности: это была революция. Революция – это есть разрушение старого порядка власти и управления и переход воли и собственности в другие руки. Нечто подобное происходит и при завоевании государства другим государством: у нас такое тоже отчасти случилось в процессе нашей «перестройки».
Об этом я по различным поводам много писала. И всякий раз на меня обрушивались негодующие читатели: не трогайте святое – революцию. Вы-де вообще не соображаете, что такое революция. Революция – это переход к более прогрессивному порядку жизни, а наша «перестройка» – дело антипрогрессивное и разрушительное. Что разрушительное – безусловно, а вот антипрогрессивное…
На самом деле, судить о прогрессивности чего-либо, можно только установив доподлинно, что этот самый прогресс в самом деле есть, т.е. история движется в некоем, известном, направлении – от плохого к лучшему. А это вовсе не установленный факт, а скорее одно из крупных верований эпохи Модерна, внушённое просветителями XVIII столетия. Считалось, что жизнь идёт вперёд, к высшим, более правильным формам общежития, а уж в т.н. будущем нас ждёт нечто совершенно феерическое. Всякий, обучавшийся в советской школе, помнит слова Чернышевского из его культового романа «Что делать?»: «Будущее светло и прекрасно. Любите его, влечётесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добросердечна, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в неё из будущего».
Меж тем никаких доказательств и даже симптомов т.н. прогресса в присутствии не имеется: люди с ходом времени не становятся ни добрее, ни умнее, ни даже образованнее, а среда обитания – делается всё более отвратительной и депрессивной, поскольку уничтожается натура, а архитектура – «вторая природа», согласно известному изречению – становится всё более омерзительной; на днях по телевизору это признал даже ректор МАРХИ. Да, показались разные электронные дивайсы, при этом, как свидетельствуют технические специалисты, утратились, забылись многие технические знаия и навыки, что нередко очень вредит делу. Об «искусствах творческих высоких и прекрасных» – лучше и не вспоминать. По сравнению с тем, что умели делать двести или даже сто лет назад, арт-объекты нынешних креаторов – вызывают разве что соболезнование по поводу их убожества и неумелости. Так что прогресс – вещь весьма сомнительная. И замечательные свойства грядущего – тоже. Кстати, есть множество культур, где люди считают, что Золотой век уже был, а то, что есть теперь – это испорченные его остатки. В этом, так, неколебимо убеждены индусы, как мне сообщила моя дочь-индолог.
Соответственно и прогрессивность революций – тоже сомнительна. Что это крупный радикальный переворот – да, а уж куда он ведёт… Бог весть. Потому мы с полным основанием можем считать «перестройку» – революцией.
Революция как распад
Следует вполне уяснить, что революция – это вовсе не заря новоиспеченной жизни – это распад, разрушение старой. Строительство новой жизни начинается после окончания революции, на этапе т.н. реакции, или, в терминах французской истории, – Реставрации. В нашей истории – это сталинская индустриализация, война за автаркию и прекращение лево-глобалистских мечтаний о мировой революции и земшарной республике советов. Сейчас тоже происходит некая ползучая постперестроечная Реставрация. Если продолжить архитектурно-строительные ассоциации, то можно произнести: революция – это падение сгнившего, ветхого здания, которое десятилетиями не ремонтировали или ограничивались косметическим ремонтом, кое-что замазывали, не затрагивая ни фундамента, ни тащащих конструкций, ни коммуникаций. И здание вполне предсказуемо рухнуло. Причём эти внутренние разрушения могли быть и не особенно заметными на взор: здание на вид могло быть крепким. Так иногда крепким выглядит трухлявый гриб, а чуть дотронешься – и рассыпается в прах.
Отдельный мистически настроенные люди видят в революциях бич Божий, наказание за грехи прошлого, и в этом, надо признать, много истины. Так представляли себе причины Великой Французской революции католические романтики начала XIX в.
Николай Бердяев, переживший Октябрьскую революцию 1917-го года как «факт собственной судьбы», как он выражался, писал в книге «Философия неравенства»: «Революция есть свыше ниспосланная кара за грехи прошедшего, роковое последствие старого зла. Так смотрели на французскую революцию те, которые глубже вникали в её смысл, не останавливались на её поверхности. Для Ж. де Местра революция была мистическим фактом, он находил её провиденциальной, ниспосланной свыше за грехи прошлого. Карлейль, написавший лучшую историю революции, видел в ней последствия неверия, утраты органического центра жизни, наказание за грехи. Революция – конец старой жизни, а не начало новой жизни, расплата за длинный путь. В революции искупаются грехи прошлого. Революция всегда говорит о том, что власть имеющие не исполнили своего назначения. И порицанием до революции господствовавших слоев общества бывает то, что они довели до революции, допустили её возможность. В обществе была болезнь и гниль, какие и сделали неизбежной революцию. Это верно и по отношению к старому режиму, предшествовавшему революции русской. Сверху не происходило творческого развития, не излучался свет, и потому прорвалась тьма снизу. Так вечно бывает. Это – закон жизни. Революциям предшествует процесс разложения, упадок веры, потеря в обществе и народе объединяющего внутреннего центра жизни. К революциям ведут не созидательные, творческие процессы, а процессы гнилостные и разрушительные».
Это совершенно правильно.
Процессы распада и разрушения выходили очень давно, крот истории, по известному выражению Гегеля, роет медленно, но дело своё знает твёрдо. И вот в некий момент дом падает.
Часто говорят, что нашу революцию 1991 г. подготовили и организовали местные предатели и зарубежные супостаты. Бесспорно, те и иные трудолюбиво действовали в нашей революции. Но такое объяснение слишком поверхностно и даже, извините, слегка инфантильно.
Инфантильно разыскивать причины своих несчастий вовне: они всегда внутри тебя – это касается и личной, и общественной жизни.
Супостаты есть вечно: англичанка всегда гадит, у немецкого генштаба всегда стоит на запасном пути бронированный вагон с революционерами, НКО разворачивают свою разрушительную пропаганду, зловредный Шарп обучает, как делать цветные революции – всё так. И потенциальных шпионов и агентов влияния спецслужбы всех стран всегда ищут и вербуют. Но если государственный организм концентрирован, если народ в целом поддерживает власть, а та крепко держит вожжи в руках – революции не происходят. А вот если организм ослаб – тут всякое может случиться. Как с вирусами: они с лёгкостью внедряются в обессиленный организм, а на сильный – не действуют. При этом, бесспорно, нет никакой гарантии, что революция/вирусное заболевание состоится: тут действует такое число случайностей, комбинаций обстоятельств, что можно вести речь только о вероятности соответствующих событий.
Почему же наш государственный и народный организм очутился восприимчивым к заразе? Почему здание советской жизни истлело и рухнуло? Причём рухнуло без военного поражения, без особого экономического кризиса – можно произнести, на ровном месте.
Идеократическая монархия
По существу дела, в 20-60-х годах наше советское государство было идеократической монархией. Цементировала его вера в то, что мы строим и тащим миру новый, справедливый строй жизни – коммунизм. Когда говорят, что всё держалось на страхе – это неверно. Страх, безусловно, присутствовал, но не он был цементом жития. Собственно, и традиционно верующему человеку полагается иметь «страх Божий», который вовсе не противоречит любви к Богу. Ужас Божий побуждает постоянно стараться жить по Закону Божьему, не нарушать заповеди, т.к. за это может последовать наказание от высших сил. Луначарский неизменно говорил, что коммунист – это более верующий человек, чем человек «старорелигиозный», как он выражался. Именно благодаря коммунистической вере, а правильнее произнести – вере в то, что мы утверждаем и отстаиваем высшую правду, вселенскую справедливость советский народ выдержал труднейшие испытания, войну, разруху.
Сталин был алым монархом: он, как и полагается монарху, воплощал собою эту самую идею праведной, справедливой жизни, к которой народ стремился. В этом касательстве Сталин не был чем-то особенным, доселе не виданным: монарх воплощает собой обобщённый и персонифицированный образ Родины. Монарх – общенародный заступник, он защищает народ от произвола высших и одновременно отстаивает высших от притязательных вожделений низов. Об этом писал Аристотель в своей «Политике» в V в. до н.э.: государь – это прокладка между высшими и низшими. Именно так ощущался Сталин в народном сознании.
Хрущёвские разоблачения Сталина и дальнейшая его «упразднение» были огромной травмой народного организма. Духовной травмой. Фронтовики, что шли в атаку с именем Сталина, почувствовали себя оскорблёнными, а молодёжь засомневалась в самых основах и в порядочной своей части пришла к выводу: все врут. Согласитесь, основания для такого умозаключения имелись солидные. Появились скептически настроенные «мальчики-ремарчики», по обороту Роберта Рождественского, «ещё ничего не сделавшие, уже ничего не делающие».
Именно в идеократической монархии ни в коем случае нельзя было «отменять» Сталина: это всё равновелико, как если бы Папа Римский объявил в очередном послании Urbi et orbi, что-де недавно выяснить, что Бога на самом деле нет. Даже, по-моему, хуже: вера в современном мире стала частным делом, а советская вера – светская религия – была делом государственным, на ней держалась существование. И вот идеологический стержень из советской жизни был вынут – и она стала постепенно скукоживаться, оседать, словно сугроб по весне, пока наконец не рухнула совершенно.
Сейчас принято издеваться над словом «скрепы». В этом нет ничего удивительного: обхихикивать что бы то ни было – это самый дешёвый и общедоступный способ показать (преимущественно самому себе), что ты рослее и умнее высмеиваемого контента; именно поэтому этот приём особенно распространён в интернетских обсуждениях.
Но на самом деле, всякий коллектив, а тем немало такой огромный, как целая нация, чем-то скрепляется: общей религией, общей целью, общим врагом, общими понятиями о добре и зле. Например, США скрепляются общей верой, что в жизни самое главное – деньги, а Америка – самая сильная и богатая край на свете, в которой простой человек может достичь вершин, т.е. заработать много денег. При этом Америка – это страна, успешно противостоящая Диаволу – коммунизму. Достань этот стержень – и всё развалится. Именно поэтому мне кажется, что Трамп не зайдёт слишком далеко в своих разоблачениях и не затронет тащащие конструкции: он же умный человек.
Вернёмся в наши палестины. В результате «отмены» Сталина и общего ощущения обманутости и разочарования народ махнул дланью на все эти высокие материи, на лозунги и постановления Партии и, как мне представляется, захотел жить маленькой частной жизнью. Так часто происходит и на степени отдельной человеческой жизни: не получилось чего-то великого – ну и ладно, буду жить для себя и своей семьи, деньжонок заработаю, прибарахлюсь. Словом, «Графа Монте – Кристо из меня не вышло, а может быть мне переквалифицироваться в управдомы».
Хата с кромке
Мысль о маленькой обывательской жизни, где своя хата с краю, а рубашка ближе к телу – вообще очень близка несложному человеку, её не требуется внушать и воспитывать – она возникает сама собой. Высокие идеи о Родине и её всемирной миссии, о коммунизме – ясном будущем человечества – все эти мысли надо внушать и воспитывать, а желание прибрахлиться – воспитывать не требуется, оно возникает само собой. Любой успешный построение даёт маленькому человеку возможность своими силами улучшить своё материальное положение, построить домик, насадить садик, расстелить коврик и т.д. Если этого нет – построение не крепок, т.к. противоречит глубинным чувствам простых людей. Именно поэтому американская мечта: домик в пригороде, машина, ребята в колледже – оказалась жизненнее и сильнее советской мечты о коммунизме.
Советский проект предполагал улучшение материального положения лишь всем вместе, со всем народом, под руководством партии, согласно предначертаниям очередного съезда партии и Программы КПСС, где в грядущем предусмотрено «изобилие материальных и духовных ценностей». Притом материальное положение должно, по замыслу, улучшиться у всех разом, в итоге общего труда. Однако то, что есть у всех, не может быть предметом самоутверждения и индивидуального достижения. То, что есть у всех – неинтересно. (Отмечу попутно, что коммунизма к 1980-ому году Программа не обещала: это придумали какие-то бойкие щелкопёры, а после от многократного повторения этот вздор закрепился).
Таким образом, народ, готовый руководствоваться обывательскими мыслями и жить махонькой жизнью, был обманут вторично. Возможностей таких не оказалось. Мало того, были отняты и те скромные возможности индивидуального легального обогащения, какие существовали прежде. При Хрущёве были ликвидированы артели, обрезаны приусадебные участки, запретили иметь скот в частном секторе в городах, представляется, даже количество яблонь у колхозников было ограничено. Мысль хрущёвского начальства понять можно: хотели сосредоточить общенародный труд на большом социалистическом хозяйстве, не распылять силы. Сосуществование большого государственного хозяйства и мелкого частного – сложно. Даже ныне сосуществование мелких фермерских хозяйств и сравнительно больших – далеко не идиллическое. Мелкие активно воруют у больших, потравы пустотелее – обиходное дело. Химия больших хозяйств тайком продаётся на сторону, селяне воруют зерно для своих утей-курей. И при Хрущёве, удобопонятно, колхозники с гораздо большим усердием работали на своём подворье, чем в колхозе-совхозе. Ну и логично уменьшить эти мелкие хозяйства вплоть до целой отмены! Так, надо полагать, рассудили хрущёвские реформаторы – и в этом, повторюсь, была своя логика. Но получилось неудачно. И не надо злорадно хихикать: править вообще трудно, и любое решение всегда имеет отрицательные стороны, затрагивает чьи-то интересы, вызывает чьё-то негодование. Лишь интернетовские блогеры, сроду ничем не управлявшие, полагают, что можно принять какое-то идеальное решение, основанное на знание каких-то им, блогерам, популярных законах общественного развития, передовой теории менеджмента и т.п.
Словом, был взят курс на полностью государственную экономику. И в городах затворили производственные артели, кустарей присоединили к фабрикам, что разрушило систему, которая, как пишут знатоки, работала вполне исправно, снабжая потребителей тем, что им требовалось, при этом не отвлекая на себя внимание страны. Потом общепит, бытовое обслуживание пришлось создавать заново – на государственной основе.
По всей видимости, сделать следовало возвратное: дать больше возможностей частной инициативе. Разрешить и поощрять кооперативы, артели, индивидуальный труд и т.п. Дело это непростое – островки частной инициативы среди моря государственной экономики. Править этой стихией очень непросто, но трудно не значит не невозможно. И на это следовало бы пойти, чтобы избежать худшего. Тогда народ мог бы в какой-то своей доли перенести интерес в сферу малого бизнеса, что помогло бы улучшить быт всего населения. Юркий, бойкий частник в деле торговли, общепита, бытового сервисы – никем и ничем не заменим. Бизнесом занимаются самые витальные, инициативные люди, имеющие фантазию и способные к риску. Ну и занимались бы! В реальности же они томились, злились, спивались, уходили в теневую экономику. Иными словами, надо было сделать то, что потом и было сделано в крышке 80-х, когда дозволили кооперативы. Но тогда, в 80-х, выпустили руль из рук и всё пошло вразнос. А в 60-х, при правильной постановке дела, могло бы сработать. Тем немало, что от сталинских времён осталось ценное наследство – высокая государственная дисциплина, которой уж не было в 80-х. Но Хрущёв, всегда имевший троцкистские закосы, разумеется, дозволить частную экономическую инициативу не мог. Попросту ментально не мог, это не помещалось у него в голове.
В результате получилось вот что. У народа не оказалось ни большой мечты о царстве справедливости и коллективном счастье, ни небольшой мечты – о домике, машине и шмотках. Осталось только чувство обманутости и разочарования. Его пытались нивелировать большими проектами, Космосом, Новью, впоследствии БАМом, но многого не достигли. Люди ехали – преимущественно за длинным рублём, а пожить наваристо и комфортно, в полное своё наслаждение на этот длинный рубль не очень получалось: ширпотреба, производство которого мог бы наладить шустрый частник, – вечно не хватало.
Это была тяжелейшая, роковая промах. Простому человеку надо, необходимо дать реализовать себя в хозяйстве, в быту, в малом своём обывательском достижении. «Для огромного большинства человечества домовитая деятельность есть единственная форма культурной активности», – верно писал известный историк-медиевист Георгий Федотов.
Некоторая открытость края сработала очень разрушительно, усугубила разочарование. Тогда Западная Европа, оправившись от войны, начала строить общество массового благосостояния, где несложный обыватель стал весьма зажиточным сравнительно с СССР. Об этом рассказывали те, кто побывал за границей, то же показывали в фильмах. Это было обидно.
Особенно обидно было то, что человек весьма мало мог воздействовать на собственное благосостояние: зарплаты определял Государственный комитет по труду и заработной плате, частная инициатива была запрещена и почиталась «нетрудовыми доходами», которые пресекались.
Одновременно в пропаганде постоянно трындели о росте благосостояния народа как о высшей цели Партии. Чаемый коммунизм всё немало представал как большая жратва. Известный историк А.Фурсов в одной из своих лекций говорил, что Хрущёв так охарактеризовал коммунизм: «это блины с маслом и со сметаной». И при этом людям не подавали каждому в индивидуальном порядке включиться в гонку за «блинами», чем повседневно занят обыватель за границей. В СССР это не было предусмотрено правилами игры. Другими словами, большая цель была не то, что отменена, а скорее истаяла, а малая цель – «блины» – тоже оказалась недостижима. В итоге народ стал понемногу въезжать в насмешливую апатию. А всё то, чему учила Партия, постепенно превратилось в ритуальный бубнёж, какому никто не придаёт никакого значения. Надо им – ну и пускай бубнят.